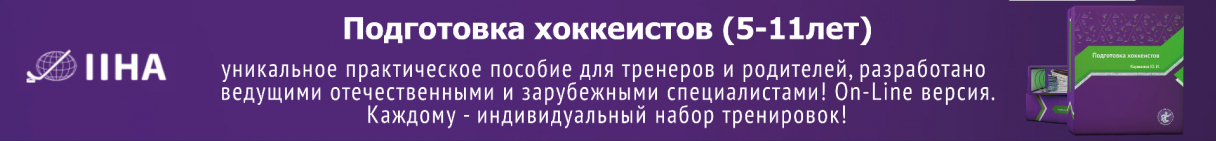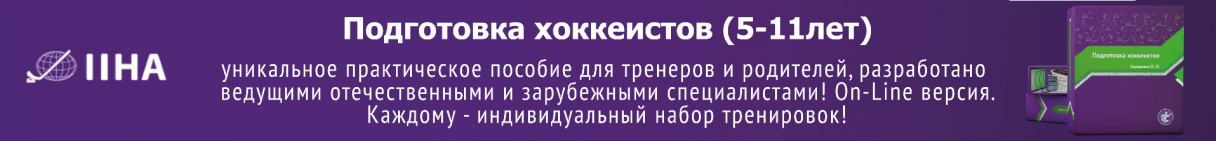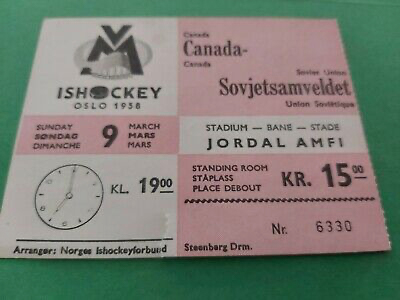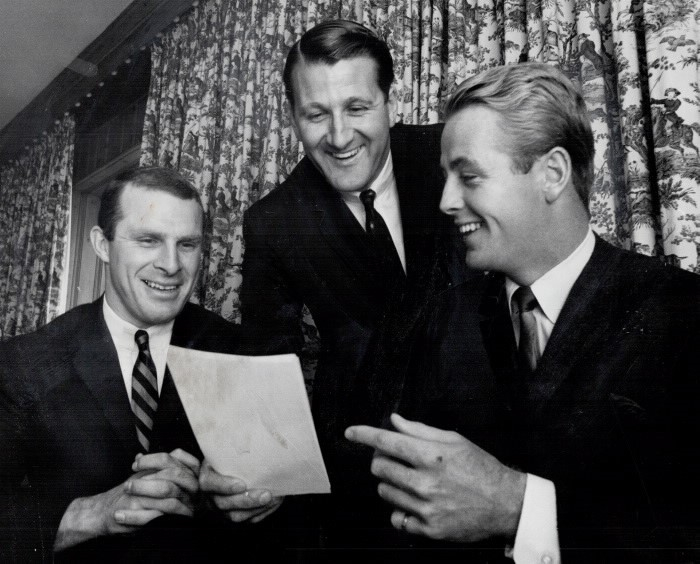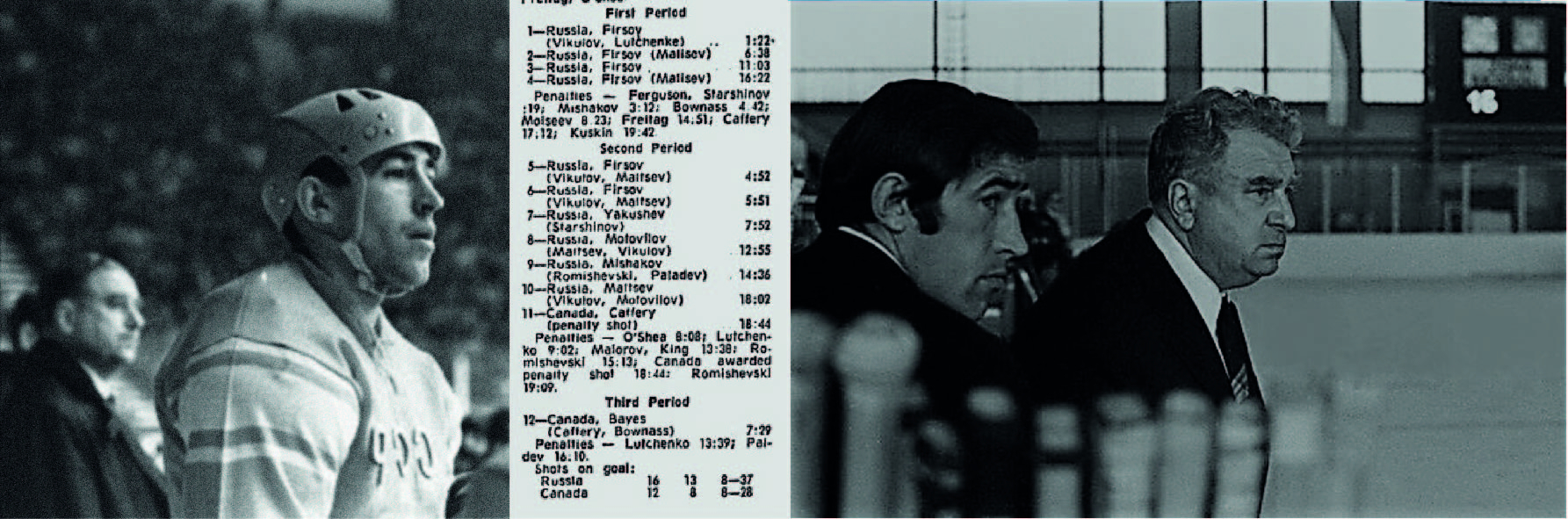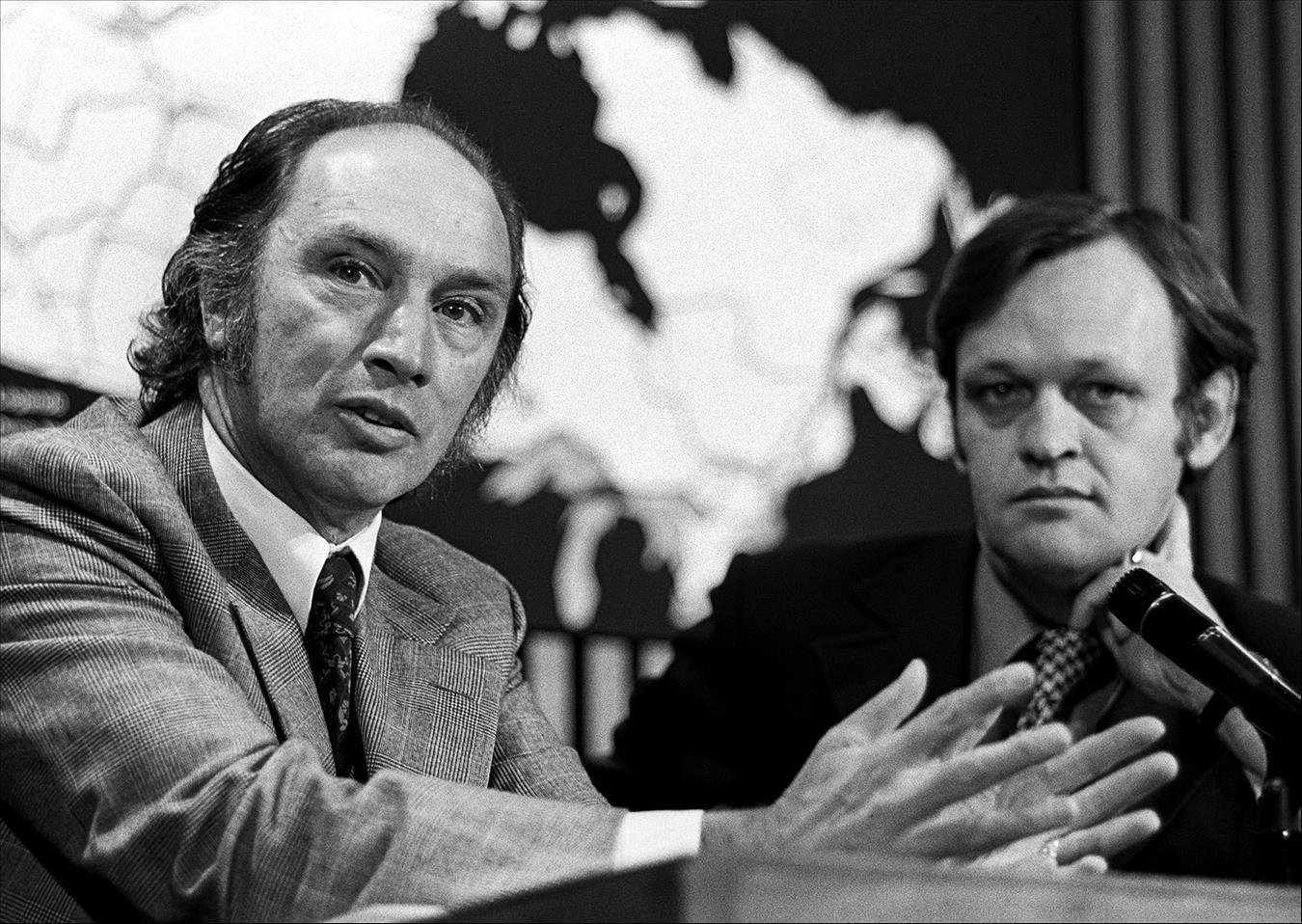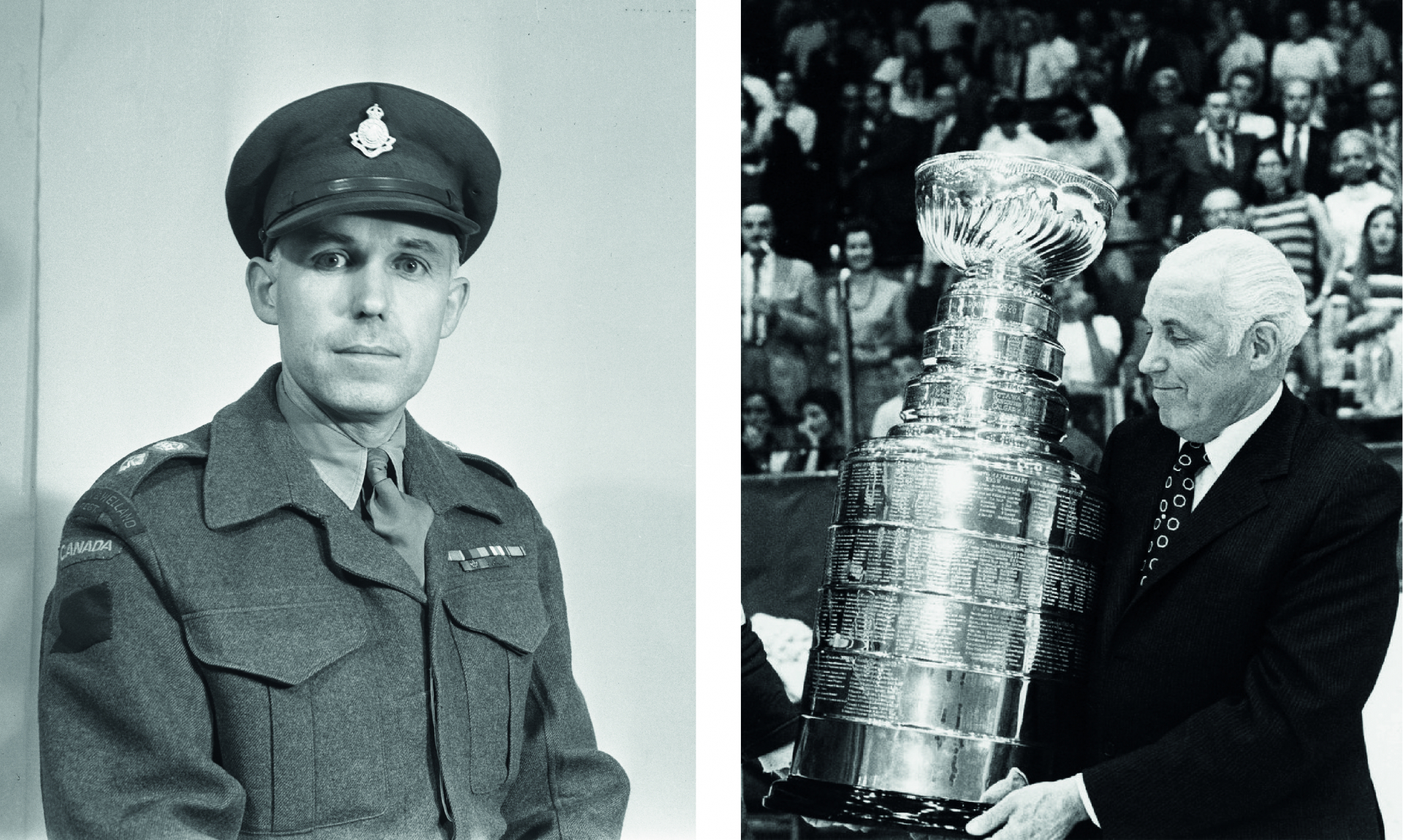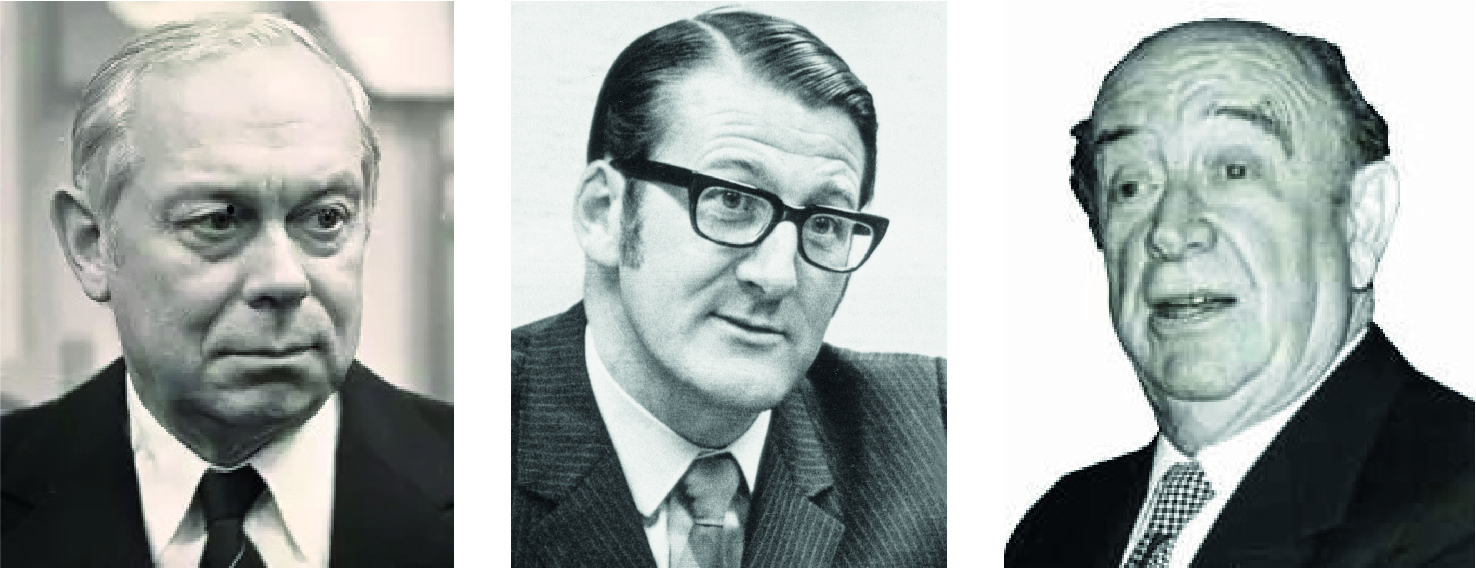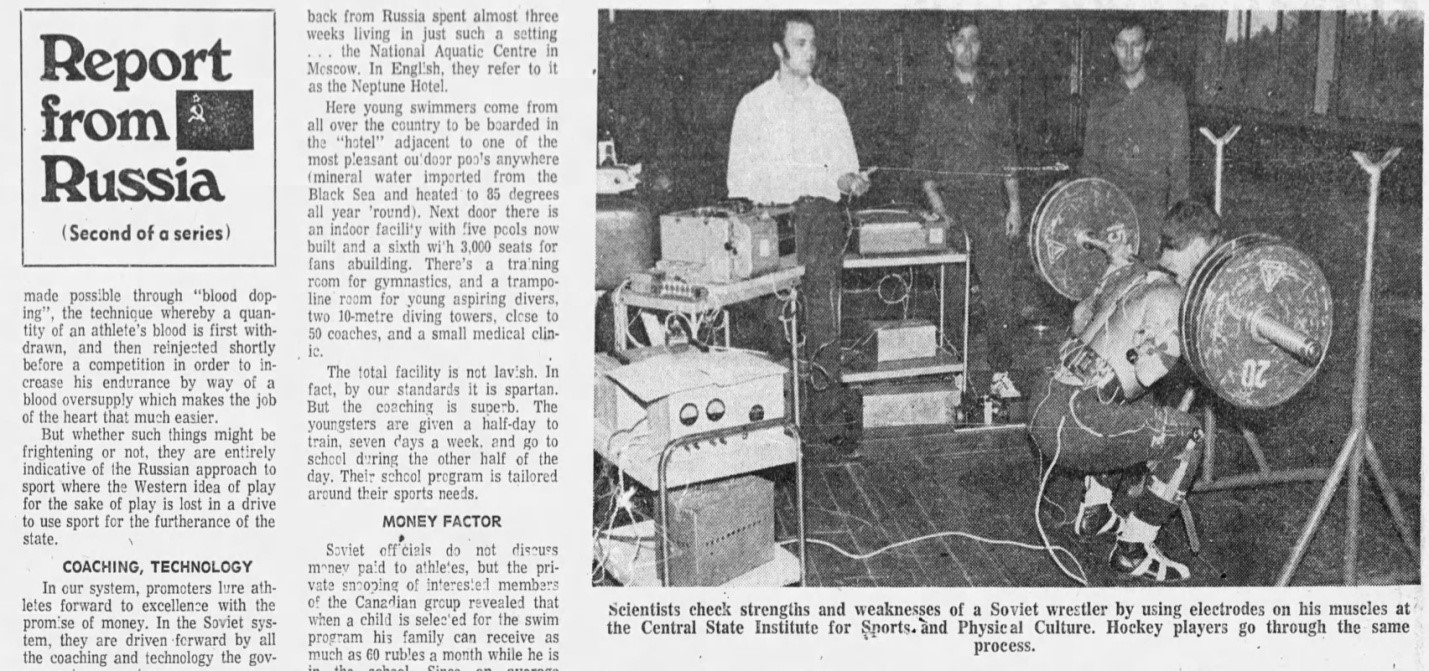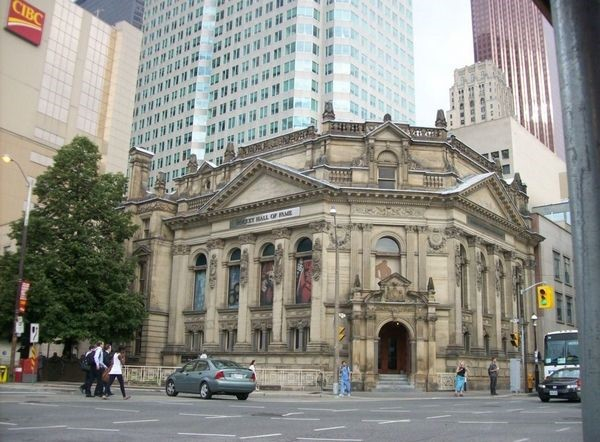Новость
19.04.2021
Владимир Акопян: СССР – Канада (1954 – 1972) ВСЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГЛАВЫ
Клуб «Золотая шайба» начинает мемуарно-историческую публикацию Владимира Акопяна о роли Анатолия Владимировича Тарасова в развитии удивительной спортивной игры под названием хоккей. Автор многие годы, более 30 последних лет жизни великого тренера, был его близким другом. В 2000 году он опубликовал первую в современной России книгу, посвящённую А.В.Тарасову – «ТРЕНЕР Тарасов», и все последующие годы продолжал изучение жизни, деятельности и наследия этого выдающегося человека.
Выбор автором нашего сайта goldenpuck.ru не случаен. «Золотая шайба» - кровное детище Анатолия Владимировича, а его почитатели и активные последователи должны быть полноправными соавторами и хозяевами подлинно исторической и достоверной информации о нём. Посетителями сайта, без сомнения, являются истинные и преданные члены хоккейного сообщества России, кто не просто любит, но понимает и знает хоккей. Они вправе быть первыми читателями этого интересного, во многом мало известного материала из истории хоккея нашей страны. Автор же данных воспоминаний являлся живым свидетелем и соучастником тех исторических хоккейных событий, о которых сегодня высказывают суждения люди, родившиеся много позже их завершения.
Желаю всем интересного путешествия в историю нашего и мирового хоккея ХХ столетия.
Следите за нашим сайтом и соцсетями. Скоро будет опубликована первая глава!
Президент Клуба «Золотая шайба» А.Тарасов
(использовано фото А. Бочинина)
Предисловие
Кому интересны сегодня эти воспоминания? Давностью в более чем 50 лет?
Даже в подробностях, ранее мало известных и неизвестных? Которые, порой, кардинально меняют сложившиеся, привычные представления о событиях прошлого. Нужны ли эти дополнительные, незнакомые факты из прежних лет обывателю наших дней?
У меня нет ответа на этот вопрос.
Но, вместе с тем, я убежден, что к фактам истории нельзя относиться с позиции потребительского спроса. Это ведь не товар, это знания. А ими при свободном доступе могут воспользоваться все желающие. И они есть, интерес к хоккею в нашей стране всё ещё сохраняется.
История хоккея России, его становления, подъема на уровень мирового величия (шутка ли, 9 побед в мировых чемпионатах подряд, – ни в каком другом виде спорта ни одна страна не добивалась такого превосходства) многократно описана в основном в бравурных тонах, как, бесспорно, закономерное достижение социализма. Хотя многие механизмы и скрытые стороны этого исторического восхождения были нам неизвестны. Постепенно они начали проясняться после небывалой, никогда, ни в одном командном виде спорта не происходившей ранее серии встреч «любителей» и профессионалов – матчей хоккеистов СССР и Канады (НХЛ) в 1972 г. События настолько значительного, что воспоминания, споры, дискуссии о нём продолжаются до настоящего времени.
Канадцы по сей день считают, что 28 сентября 1972 г. за 34 секунды до окончания матча сборных НХЛ и СССР завершилась 18-летняя история противостояния канадского и российского хоккея. Победный шестой гол Пола Хендерсона подвёл итог серии из 8 матчей: + 4 = 1 – 3 в пользу Канады. Остававшиеся до окончания решающего матча 34 секунды вместе с финальной сиреной «превратились в вечность» (Darril Fosty, 2010). В вечность превосходства хоккея НХЛ над хоккеем Советского Союза. Спорное, но не безосновательное суждение.

Обе страны шли к этому историческому соревнованию с момента их первой встречи в чемпионате мира 1954 года. О том, как был пройден соперниками этот путь, данный рассказ.
Владимир Акопян, Москва, апрель 2021
Пролог
«Мы, канадцы, скромная нация с должным пониманием предела своих возможностей, и того, на что мы способны. Мы не обольщаемся надеждой опередить французов в искусстве кулинарии, или иранцев в ковроткачестве, а австралийцев в теннисе. Но мы, черт возьми, распнём любого, желающего посоревноваться с нами, если это дело называется хоккей»
Toronto Telegram, III-1958
«Предвижу всё: их оскорбит печальной тайны объясненье»
А.С.Пушкин
Ошибочно полагать, что история замысла о соревновании советских хоккеистов с профессионалами НХЛ берёт своё начало весной 1964 года. После победы сборной СССР на Олимпиаде в Инсбруке. Как результат согласия советского премьера Хрущёва, данного тренерам нашей команды Чернышеву и Тарасову.


Некоторые современные «историографы» советского хоккея, не сильно скрывающие свою неприязнь к А.В.Тарасову, одержимо пытаются умалить его огромный вклад в осуществление этого исторического события. Именно поэтому, опираясь на его колоритный рассказ (фильм «Хоккей Анатолия Тарасова», 1991) о беседе с Н.С.Хрущевым и Л.И.Брежневым (см. фото), они необоснованно приписывают великому тренеру присвоение авторства этой идеи. И в этой связи обвиняют его во лжи.
Во имя установления истины, а также, чтобы опровергнуть такие во многом невежественно-расхожие утверждения, попробуем ответить на вопрос: насколько Тарасов являлся инициатором и промоутером этих соревнований? И, пытаясь широко охватить тему советско-канадских хоккейных отношений, постараемся разобраться, какова роль Тарасова в их становлении и развитии? Отношений и событий, в которых Тарасов был активным участником, и большая часть (почти 15 лет) которых происходила за океаном.
Тем, кто плохо (или поверхностно) знаком с историей появления нашего хоккея на арене международного спорта, предлагаю для начала этот небольшой рассказ. Он не похож на привычный и традиционно-навязчивый исторический экскурс, бравурно повторяемый в отечественных медиа из поколения в поколение (вот уже четвертое по счёту) по сей день. И мы попытаемся объяснить, да и сам читатель вскоре поймёт, почему не похож.
Взгляд на любые исторические события, особенно когда они касаются международных отношений, всегда страдает ограниченностью, если он основан на односторонней или преимущественно односторонней информации. Именно этим грешат сегодняшние наши представления о советско-канадском хоккейном противостоянии. Они поначалу складывались по большей мере на основе информации, поставляемой из-за рубежа советскими журналистами, спортивными чиновниками, дипломатическими работниками. С момента нашего «появления» в Канаде дополнялись сведениями и суждениями самих спортсменов и тренеров. И, конечно, не могли не быть тенденциозными. Потому что тогда противостояние спортивное всегда подогревалось противостоянием политическим, кстати, с обеих сторон «железного занавеса». А вот советские любители хоккея смогли впервые увидеть игру наших спортсменов за океаном только в 1972 году. Как раз в момент кульминации 15-летней истории нашего «хоккейного покорения Канады». Сегодня же о тех событиях берутся судить и «ставить оценки» люди, только родившиеся в годы, когда Тарасов уже заканчивал свою международную хоккейную карьеру.
Преодолеть эти изъяны прошлого и настоящего, стараясь избежать предвзятости, мы по мере сил попытаемся в нашем дальнейшем повествовании.
Вступление СССР в ЛИХГ
(ЛИХГ; LIHG – Ligue Internationale de Hockey sur Glace, фр.; еще в 1948 г. была переименована в IIHF [International Ice Hockey Federation] (МФХЛ), но в СССР ещё долго в официальных документах называлась по-старому)
Эта довольно продолжительная история тянулась около 3-х лет. Вкратце она выглядит так. Секция хоккея СССР (так она называлась тогда) была принята в члены ЛИХГ (30 голосами «за» при 7-ми «против» и 7-ми «воздержавшихся») 3 апреля 1952 г. Но на свой первый чемпионат мира наша команда поехала только в 1954 г. Существуют различные версии и толкования причин «неучастия» сборной СССР в чемпионате 1953 г. До последнего момента (18.12.1952 г.) президент ЛИХГ г-н Ф.Кратц, ведя официальную переписку с Госкомспортом СССР, рассчитывал на подачу заявки на участие в чемпионате мира (7-15.03. 1953, Швейцария) нашей команды. Ожидали этой заявки и хоккеисты, и тренерский штаб сборной СССР по хоккею. Завершились эти ожидания после выхода в свет Постановления Совета Министров СССР № 5276-2058 от 26.12.1952 «… о направлении в марте 1953 г. в Норвегию команды советских хоккеистов в составе 25 человек сроком на 15 дней для участия в товарищеских соревнованиях с норвежскими хоккеистами». Подписано оно было Председателем Совета Министров СССР И.В.Сталиным. Это означало отказ СССР от участия в чемпионате мира.
Произошедшие в нашей стране весной следующего (1953) года политические события заметно изменили ситуацию в отечественном хоккее – после кончины вождя народов сборная СССР всё-таки провела в Норвегии 3 матча, пробыв там всего 7 дней, и, тем самым, завершила международный сезон. А планомерная подготовка к мировому первенству 1954 года, первому в истории советского хоккея с шайбой, началась в октябре 1953 г. товарищескими матчами со сборной ГДР.
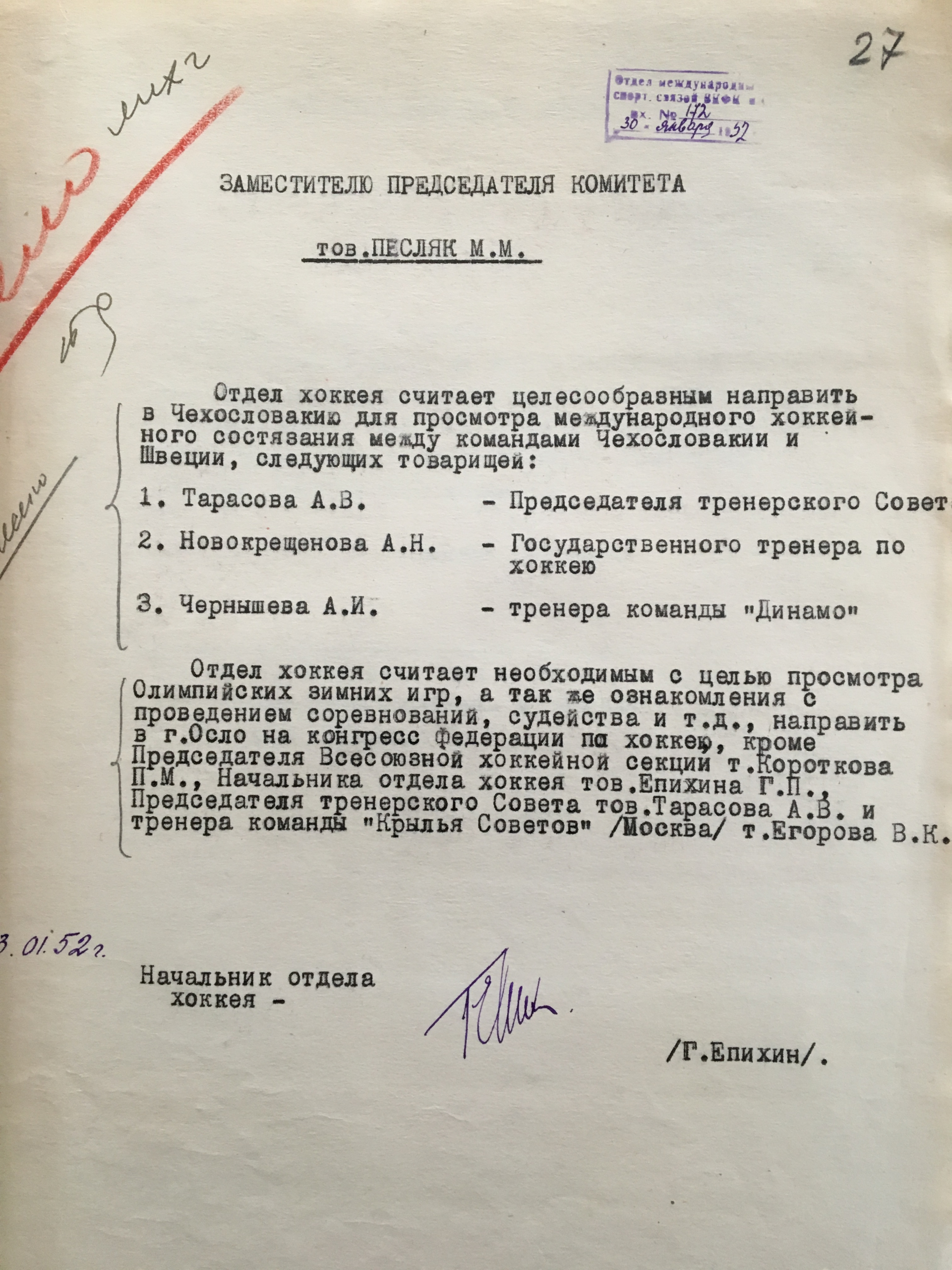
Сборная СССР осенью 1953 вступила в новый сезон под руководством А.Тарасова. Недаром весь сезон 1952 -53 гг. он был Председателем тренерского совета и в этом статусе вместе с П.Коротковым, Г.Епихиным и В.Егоровым посетил Олимпийские игры и Конгресс ЛИХГ в Осло (февраль 1952 г.).
Если начинать рассказ об эпохе советско-канадских отношений, то за точку отсчета следует брать 1948 г. - первый опыт международных матчей наших спортсменов с зарубежными хоккейными грандами. Это всем хорошо известные матчи сборной Москвы и чехословацкой команды LTC (ЛТЦ по-нашему). А при чем здесь Канада, спросит читатель? Ответ прост и очевиден: на протяжении всех лет с момента первого (1920 г.) чемпионата мира Канада была доминирующим лидером и образцом мирового хоккея. Вся Европа ориентировалась на феномен канадского хоккея, ей стали вполне привычны регулярные приезды канадских хоккейных команд. У канадцев учились совершенствовать свою игру и более всего преуспели в этом Швейцария, Швеция и особенно Чехословакия. Вот здесь-то и следует рассказать, как в то время хоккей Канады жаловал Европу своими визитами.
Почти ежегодно, начиная с 1924 года и до начала II мировой войны, Канада отправляла одну из своих клубных команд в заокеанское турне. В Европе клубы проводили от 20 до 55 выставочных игр в разных странах. Их победный рейтинг в таких матчах составлял 90-95%. Демонстрируя образцы подлинно канадского стиля игры, эти коллективы делали значительные финансовые сборы, и всегда возвращались на родину, в свои города (как крупные, так и маленькие) подлинными национальными героями, поскольку по окончании таких турне выигрывали очередной чемпионат мира по хоккею. До начала II Мировой войны Канада выиграла 11 чемпионатов мира из 13.
Зимний сезон 1947 г. в истории международного хоккея во многом знаменателен. Начать хотя бы с того, что это был первый послевоенный чемпионат мира по хоккею с шайбой и 14-ый в истории этого вида спорта. Канада впервые за все годы не участвовала в турнире. Однако это не помешало президенту КЛХА (Канадская любительская хоккейная ассоциация) профессору Харди (W.G.Hardy) на ежегодном конгрессе МФХЛ (который всегда проходит во время ЧМ) отстоять принцип ротации и переизбрания руководства МФХЛ каждые три года, чередуя европейское и североамериканское представительство. МФХЛ также согласилась оставить за Канадой право иметь собственное определение любительского статуса игроков для чемпионатов мира, тогда как на Олимпийских играх это определение оставалось за МФХЛ, совпадая с позицией МОК. Попытка с североамериканской стороны добиться такого же альтернирующего принципа в выборе страны проведения ЧМ успеха не имела.
А чемпионом мира в том 1947 г. стала команда Чехословакии. Основу той команды-победительницы составляли игроки клуба ЛТЦ, который и был первым титулованным хоккейным гостем нашей страны в феврале 1948 г. Тренировал команду Майк Букна, словак канадского происхождения. Его влияние на хоккей Чехословакии трудно переоценить. И до и после II Мировой войны он возглавлял чехословацкую сборную и приводил её к победам в чемпионатах Европы и, как раз в 1947-м, в чемпионате мира. Не только стиль игры, но и организация всего хоккейного хозяйства Чехословакии после II Мировой войны были доверены М.Букне и, конечно, являлись калькой хоккея Канады.
Вот каким оказалось первоначальное, хоть и косвенное, влияние канадского хоккея на зарождающийся в СССР хоккей с шайбой.
Олимпиаду в Осло (15-25 февраля 1952 года) выиграла канадская команда Edmonton Mercurys, с трудом опередившая команду США, которая вырвала у канадцев ничью 3:3. До и сразу после Олимпиады канадский клуб сыграл в Европе 30 матчей, победив в 27. Начиная с 1950 года тот предстоящий олимпийский турнир находился на грани срыва из-за впервые разразившегося конфликта между МОК и ЛИХГ (которую представлял Президент канадец У.Дж.Харди). Яблоком раздора была различная трактовка любительского статуса спортсменов (см. выше). КЛХА и ЛИХГ даже предлагали провести отдельный хоккейный турнир вне рамок Олимпиады. В конечном счете, канадская позиция уступила МОК. Попутно в этих баталиях Харди настаивал на изолированном включении в Олимпийский турнир хоккейной команды СССР, несмотря на отказ советских властей от общекомандного участия в зимней олимпиаде. Однако, по понятным нам причинам (и никак не понятным Харди), ни Федерация хоккея, ни Спорткомитет СССР не могли решать такой вопрос самостоятельно.
О желании и попытке наших хоккеистов выступить на чемпионате мира 1953 года (Швейцария, 7-15 марта) мы уже говорили. А вот канадская позиция по поводу этого турнира оказалась для всех совершенно неожиданной. Президент КЛХА W.B.George 12 января того же года публично заявил, что Канада не будет посылать свою команду на мировое первенство. «Ежегодно мы расходуем более $ 10.000, отправляя свою команду в Европу для проведения 30-40 матчей и участия в турнире МФХЛ. Это только пополняет хоккейные кошельки Европы, а в ответ мы слышим в свой адрес ненужные обвинения в злоупотреблении канадским стилем игры». Американцы также отказались от поездки в Европу. Чемпионом мира 1953 г. стала команда Швеции.
Выше мы кратко описали атмосферу и расстановку сил в мировом любительском хоккее, на фоне которой советский спорт с полным основанием дерзнул появиться на международной спортивной арене уже глобального масштаба.
Чемпионат мира 1954 г.
Вхождение в международную хоккейную элиту.
Все знают, что дебют советских хоккеистов в чемпионате мира был ошеломляющим. Решающую встречу за золото с канадской командой «East York Lyndhursts» из Торонто они завершили со счетом 7:2. На родине хоккея пресса откликнулась на поражение своей команды разгромными комментариями и публикациями. Критиковали главным образом Канадскую любительскую хоккейную ассоциацию (КЛХА/CAHA), опрометчиво отправившую на чемпионат команду любительского эшелона самого низкого уровня (представителя хоккейной ассоциации 2-го ранга из провинции Онтарио). Политики, представители деловых кругов, руководители профессионального хоккея активно обсуждали необходимость и возможные пути развития советско-канадских хоккейных отношений. Мотивом для такого ажиотажа служило огромное желание доказать случайность досадного поражения от новичка турнира, безотлагательно продемонстрировать мощь и непобедимость канадского хоккея. Влиятельный бизнес-промоутер профессионального спорта (хоккей, фигурное катание, дерби, бейсбол) Томас Горман (Thomas Gorman) посетил советского посла в Канаде Дмитрия Чувахина. Они обсудили возможность организации турне хоккейной команды СССР по Канаде. В то же самое время посол Канады в Советском Союзе Джон Уоткинс нанес визит министру иностранных дел Молотову и поздравил его с победой в чемпионате мира по хоккею. Управляющий директор «Торонто Мэйпл Лифс» (ТМЛ) Конн Смайт (Conn Smythe) заявил, что готов сразу после завершения плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли) отправиться со своей командой в Россию, при условии адекватной финансовой компенсации поездки. Гражданский комитет Торонто немедленно объявил сбор средств для такого турне, а Мэр города Алан Лампорт сообщил о своём личном вкладе размером в $5.000 (более $45.000 сегодня). Председатель Совета управления ТМЛ Уильям МакБрайен (William McBrien) отправил советскому послу в Канаде телеграфный запрос на поездку команды в мае того года в Москву. В телеграмме говорилось, что «встречи с советскими командами будут частью европейского турне, призванного развивать международные хоккейные связи, и позволят любителям спорта СССР увидеть канадский хоккей в его лучшем виде». В заявлении подчеркивалось, что советская сторона не понесет никаких расходов в связи с приездом команды из Торонто.
Правда, ровно через сутки, 9 марта, этот вопрос был снят с повестки дня. В Канаде мгновенно узнали, что в Советском Союзе нет катков с искусственным льдом, а дату открытия строящегося в Сокольниках первого такого катка никто с советской стороны назвать не смог. Вызвал у канадцев удивление и тот факт, что предложения Смайта и МакБрайена не были опубликованы в советской печати. Иными словами, вскоре стало понятно, что адекватной реакции на предложения Канады с советской стороны не последовало.
Здесь немаловажно подчеркнуть, что столь бурная реакция канадской общественности была продиктована исключительно ударом по национальному достоинству родины хоккея, которым обернулось это поражение. Конн Смайт, владелец «Торонто Мейпл Лифс» (и далеко не он один), ветеран II-ой (да и I-ой!) мировой войны, не мог смириться с таким унизительным итогом турнира из-за поражения от неизвестного новичка. В его представлении реванш, и реванш сокрушительный, следовало взять безотлагательно. Замешательство в рядах советских официальных органов (дипломатия, спортивное руководство) в ответ на шквал канадских предложений объяснимо. В Советском Союзе не имели ни малейшего представления об устройстве канадской хоккейной жизни, её многоукладности и финансовой основе. Иными словами, в СССР просто не знали, в чём суть и каковы движущие механизмы западного, в т.ч. профессионального спорта. Как на Западе, со своей стороны, не понимали устройства социалистического спорта. И такое взаимное недопонимание ещё довольно долго замедляло развитие продуктивных советско-канадских хоккейных отношений.
Вышеупомянутый «East York Lyndhursts» был единственным клубом в любительском хоккее Канады, который согласился в том году на предложение КЛХА представлять страну на мировом чемпионате. Содержал эту команду одноименный автосалон (представьте на мгновение, что на чемпионат мира 1954 г. из СССР была бы направлена команда «Торпедо» горьковского автозавода, занявшая тогда в Классе «Б» 2-е место) одного из районов (East York) Торонто - крупнейшего (с населением в те годы около 1,5 млн. человек) канадского города. В составе команды играли горожане самых разных профессий. Поездку по Европе (16 показательных матчей в Италии, Франции, Швейцарии, Германии и Швеции + чемпионат мира в Стокгольмеи) целиком финансировала КЛХА. Суточные хоккеистов Канады составляли в сегодняшнем эквиваленте менее 30 долларов. Многие игроки расходовали и личные средства. Отправившись в 2-месячную поездку, члены команды получили отпуск у своих работодателей, но неоплачиваемый. Завершить этот экскурс необходимо информацией о том, что «East York Lyndhursts» в том же 1954 году завершила своё всего лишь трехлетнее существование, но навечно вошла в историю мирового хоккея. Как первая команда Канады, встречавшаяся с русскими, и как первая канадская команда им проигравшая. Джон Скотт (John Scott), один из игроков той команды спустя 50 лет заметил: «Мы стали частью истории. А были бы гораздо счастливее, если бы победили, становясь частью совсем иной истории»
Из сказанного можно понять, с каким соперником из Канады впервые встретились наши хоккеисты – привлеченные в сборный коллектив лучшие спортсмены страны. Очевидно, что степень готовности наших игроков была ничуть не ниже, а наверняка даже выше, чем у любителей-канадцев. Все наши хоккеисты играли вместе уже более 5-ти лет. Постоянный тренировочный режим наших спортсменов как в клубах (военизированных – ЦДСА, «Динамо», ранее ВВС), так и в сборной команде, обеспечивал высокую и долговременную спортивную форму, и игровую готовность (зря что ли сегодняшние ненавистники Тарасова постоянно вспоминают о его предельных тренировочных нагрузках). Недаром шведские газеты, подводившие итоги чемпионата мира, хором трубили о том, что хоккеисты СССР ничего общего с любительским спортом не имеют, у многих офицерские звания, стабильная зарплата и высокие премии за победные достижения. Об этом, в частности, рассказал на торжественном приёме в стокгольмской ратуше наш капитан Всеволод Бобров, поделившись даже размером премиальных вознаграждений за победы. Там же руководитель нашей делегации Борис Мякиньков (начальник Управления спортивных игр Спорткомитета СССР) простодушно заявил: «Даже, несмотря на нашу довольно лёгкую победу, мы бы настаивали на приезде в СССР канадской команды. В России хотели бы, чтобы «Монреаль» или «Торонто» из НХЛ совершили турне по нашей стране».
Кстати, о Мякинькове. В воспоминаниях некоторых участников той исторической встречи с командой Канады сквозь десятилетия нередко звучат утверждения, что А.Тарасов рекомендовал проводить ту игру, не стремясь к победе. Дабы в безнадежном матче сэкономить силы для решающей игры со Швецией за титул чемпиона Европы. Опуская имена авторов этих утверждений, сошлемся на самого компетентного и информированного в той ситуации специалиста. А.И.Чернышев в своём интервью (1979 года) рассказывает: «Сидим с Вадимом (В.Синявский – прим. автора) у него в номере. Вдруг прибегает Мякиньков. «Есть предложение: игру канадцам отдать, чтобы самим остаться целыми, и будем играть переигровку со шведами за звание чемпионов Европы. Утром … на установке на игру я говорю ребятам, что никто не верит, что мы можем быть чемпионами. А мы выиграем эту игру, если будем играть вот так …».
YouTube канал "Красная Машина"
И уж для пущей убедительности приведём две совершенно разные оценки команды «Lyndhursts» капитаном и старшим тренером сборной СССР.
В. Бобров: «Канадцы прислали в Стокгольм больших мастеров, сильную команду. Их считали основными фаворитами. Канадцы не знали равных в силовом единоборстве, напористо действовали у ворот противника, запросто выигрывали вбрасывание, ловко добивали шайбу. Словом, известно, каковы канадцы, им и сегодня палец в рот не клади».
А. Чернышев: «Перед чемпионатом я видел матчи канадцев в Давосе и Цюрихе: «Линдхерст» на меня не произвела особого впечатления. В ее игре чувствовался авантюризм, пренебрежение к противникам, которые, кстати, откровенно трусили перед канадцами. Вернувшись в Москву, я сказал: с канадцами можно играть и даже победить их. Никто не поверил этому. Не верили даже в Стокгольме».
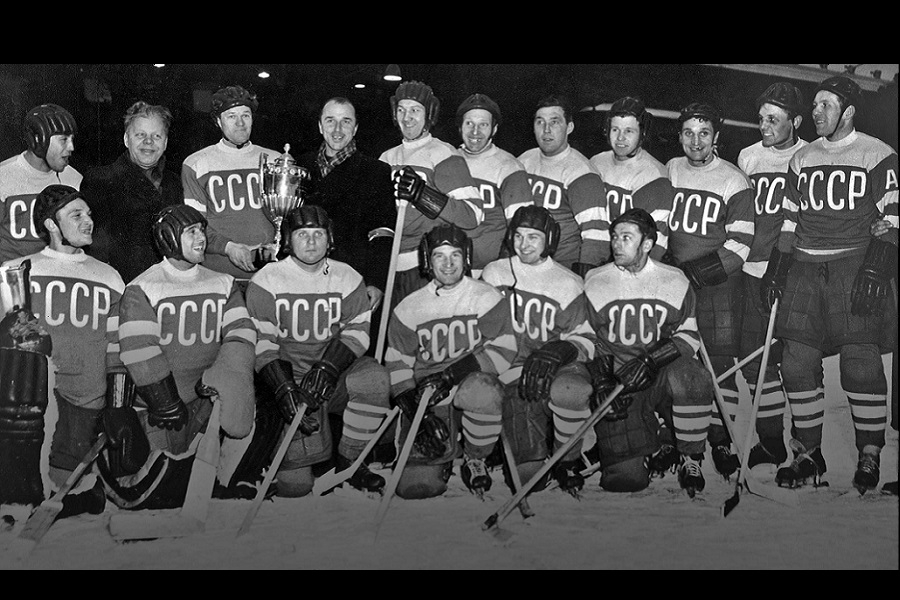
Обратите внимание, какова разница в восприятии соперника игроком и тренером. Спортсмен видит в первую очередь сильные стороны, а тренер- мыслитель обязан видеть и использовать для победы слабости противника.
Итак, подводим итоги. Наш хоккей, отправляясь на первый в своей биографии чемпионат мира, даже в кошмарном сне не мог представить такое внезапное, неотступно навязчивое внимание к себе всего (подчеркиваю, всего!) канадского хоккея – прессы, официальных лиц, менеджеров, тренеров и хоккеистов профессиональных клубов. Внимание, которое сформировалось буквально в течение нескольких суток! Именно с этого момента международный хоккей вступил в новую фазу своего развития.

Опустим подробности всех тех восторженных и вполне заслуженных торжеств, которые сопровождали в нашей стране эту победу – ведь она была яркой и вдохновляющей. После успеха Советского спорта на летней олимпиаде 1952 г. этот новый мировой чемпионский титул повышал уверенность в успехе нашей страны на предстоящей и первой для нас олимпиаде зимних видов спорта 1956 года. Но с точки зрения дальнейшего развития советского хоккея важнее было другое – он внезапно оказался в положении дерзкого оппонента основоположникам этого вида спорта. Канадцев обескуражило и возмутило то, что поражение им нанесли никогда не учившиеся у них дебютанты. Ранее на международных форумах их обыгрывали и англичане, и чехи, и их соседи американцы. Но все они в разное время учились у родоначальников хоккея – многие приглашали в Европу игроков и тренеров из Канады, американцам подавно за этим далеко ходить не надо было – учеба шла рядом. Русские же на первом для себя чемпионате мира оказались подлинным «громом среди ясного неба».
Однако прошло немного времени, и, с окончанием сезона в Канаде, страсти и досада улеглись. Во многом и потому, что там быстро поняли – инфраструктура организованного хоккея с шайбой в СССР была в зачаточном состоянии (см. выше). Некоторые канадские аналитики и газетные колумнисты оценили победу русских как «nine day wonder» (идиоматическое английское выражение) - недолгое чудо (длившееся всего 9 дней). Традиционно к апрелю акцент интереса поклонников хоккея всей Канады целиком сместился к розыгрышу Кубка Стэнли, финал которого был захватывающим. Только в 7-м матче плей-офф «Детройт», возглавляемый Горди Хоу, одержал победу над «Монреалем», в котором тогда блистали М.Ришар, Ж.Беливо, Б.Жеоффрион и Ж.Плант. А ещё этот боевой финал ознаменовался небывалым для НХЛ, да и всего хоккея событием – на кубке победителей впервые в истории была выгравирована фамилия женщины! Это была Маргарет Норрис (Marguerite Norris), президент «Детройт Ред Уингс», унаследовавшая в 1952 г. этот пост от своего отца Джеймса Норриса Ст., многолетнего владельца этого хоккейного клуба.
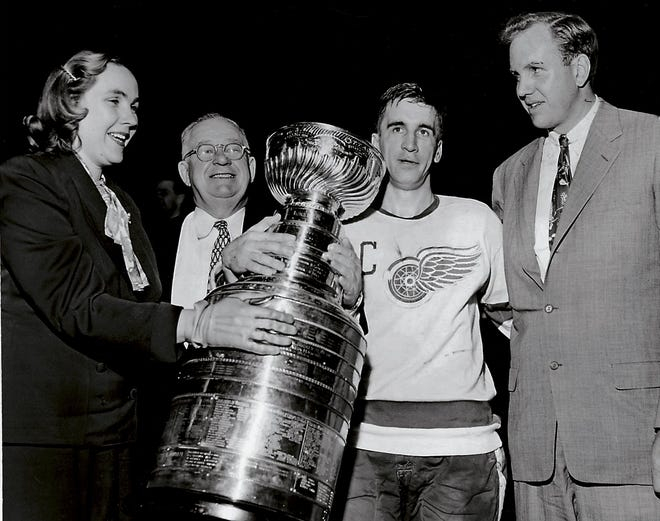
Так что мысли канадской общественности о безотлагательном реванше, который необходимо взять у русских, пришлось перенести на следующий сезон. А кандидат для выполнения этой принципиальной задачи уже был известен – клуб «Penticton Vees» из одноименного города провинции Британская Колумбия. Этот небольшой промышленный городок с населением около 14 000 человек удивил КЛХА (САНА) да и всю страну тем, что его команда, существовавшая только 3 года, с третьей попытки выиграла Кубок Аллана (высшее чемпионское звание в любительском хоккее Канады). Сразу после этой победы КЛХА, опасаясь повторения нареканий прошлого сезона, обязала клуб-чемпион «Penticton Vees» представлять Канаду на чемпионате мира 1955 г. в Германии (ФРГ). И уже в следующем сезоне, по мере приближения даты (февраль 1955) очередного первенства мира, реваншистские настроения в полиморфной хоккейной среде Канады начали стремительно нарастать. В прессе возобновились критические выпады в адрес КЛХА: дескать, снова Канаду на мировом хоккейном форуме будет представлять слабая любительская команда. Оригинальную форму усиления состава «Vees» предложил тренер «Монреаля» Дик Ирвин (Dick Irvin): по два игрока от каждой команды «Большой шестерки» НХЛ «для латания дыр». Отважный любительский клуб отверг какие-либо посягательства на свою монолитность и предпочёл отправиться в Европу своим неизменным составом, чтобы сражаться собственными силами. Объединяющая роль в этом принадлежала играющему тренеру команды Гранту Уорвику (Grant Warwick), в прошлом игроку «Нью-Йорк Рейнджерс», умудрившемуся в 1942 году стать в НХЛ «новичком года» (Rookie of the Year). Свою 10-летнюю карьеру в НХЛ он завершил в «Монреаль Канадиенс» и в 1952 году вернулся в клуб родного города. Там вместе с братьями Биллом и Диком он стал цементирующей основой победной командной игры клуба и образцом для молодых и честолюбивых партнеров. Завершая характеристику главного будущего соперника чемпионов мира, следует подчеркнуть, что весь период своего 3-летнего существования «Penticton Vees» был подлинно любительской командой. Каждый спортсмен имел основную работу (например, Bill Warwick - прачечный комбинат, Dick Warwick - таксомоторная [ветеранская] компания, Ernie Rucks - ателье домашнего интерьера, Doug Kilburn – бензозаправочная станция, и т.д.) и занимался хоккеем только в свободное время.
Чемпионат мира 1955 г.
Советская сборная в статусе чемпионов мира начала подготовку к новому международному сезону задолго (более чем за месяц) до начала Всесоюзного (24.11.1954 - 07.02.1955) первенства. После сборов в ГДР были проведены 6 матчей в Западной Германии со слабыми местными командами. Затем на фоне матчей чемпионата СССР в декабре и январе были встречи (6) и с традиционно сильными, равными по силе соперниками – сборными ЧССР и Швеции. В течение 4 месяцев в подготовительных матчах были апробированы около 30 хоккеистов. Однако на мировое первенство в ФРГ наша команда отправилась практически в неизменном чемпионском составе, за исключением замены только одного чемпиона мира А.Виноградова на Николая Сологубова. Тренеры команды верили в силу своих подопечных, перед которыми по сравнению с прошлым годом стояла уже качественно иная и более сложная задача – сохранение высокого звания чемпионов мира. Всем было понятно, что судьба золотых медалей будет решаться в поединке сборных СССР и Канады.
Основные претенденты на чемпионское звание подошли к началу турнира с различной степенью информированности друг о друге. В нашем лагере ничего не знали об особенностях игры «Penticton Vees», кроме подчеркнуто устрашающего факта присутствия в составе команды ветерана НХЛ Гранта Уорвика, в роли играющего тренера (см. выше). Никто и нигде ни разу не упомянул, что эта команда существовала всего 4-ый год. Представить особенности командной тактики игры канадцев наши тренеры не могли, так как никаких сведений на этот счёт не имели (в отличие от 1954 г.). Никто из нашего штаба не догадался посетить выставочную встречу Канада – ЧССР, которую «Vees» провели в Праге за 3 дня до начала чемпионата. Это была очень конфликтная игра, изобиловавшая физически агрессивной манерой действий канадцев, их многочисленными (11) удалениями и частыми потасовками. Несмотря на продолжительную игру в меньшинстве канадцы не дали себя победить – 3:3. Президент Чехословакии А.Запотоцкий назвал манеру игры канадцев «хоккеем дикого Запада».
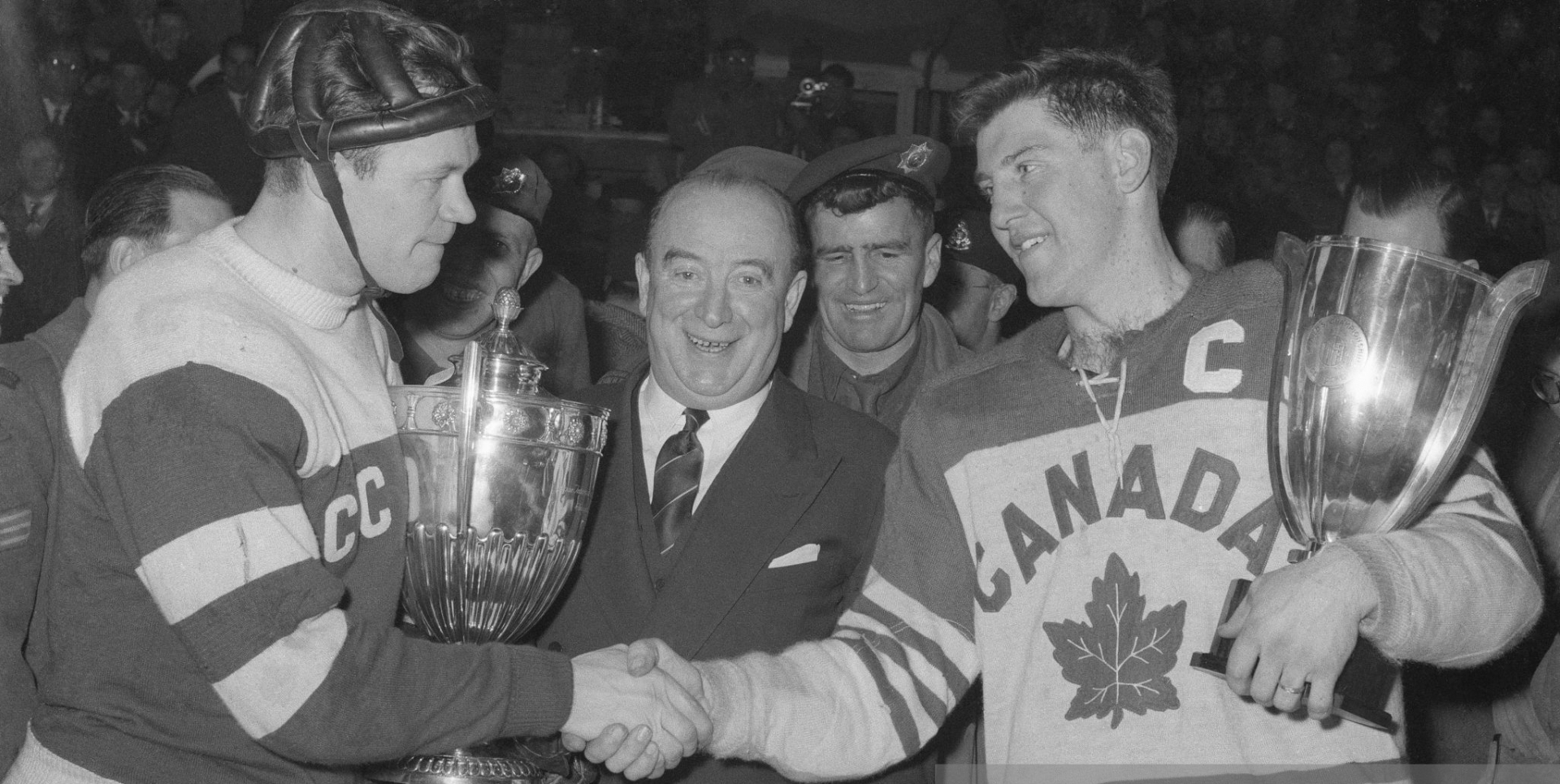
В отличие от сборной СССР, канадцы настраивались на встречу с нами задолго до начала турнира, ещё в Канаде, с конца 1954 г. Во-первых, атмосфера требований обязательного реванша за поражение в чемпионате 1954 г. постоянно культивировалась и непрерывно нарастала в ходе хоккейного сезона. Во-вторых, манера и стиль победной игры сборной СССР против «East York Lyndhursts» всем хорошо запомнились и были понятны новым претендентам. Роль единоличного премьера (В.Бобров) в игре первой тройки нашей сборной канадцами расценивалась как большой тактический изъян командных действий. Умение «русских» уклоняться от силовой борьбы планировалось максимально нивелировать. Наконец, с первых матчей (и даже тренировок) мирового первенства «Penticton» постоянно демонстрировал силовую и агрессивную, преимущественно атакующую игру. Это не могло не произвести должного психологического впечатления на любого соперника. Достаточно того факта, что в первом матче с командой США (высоко котировавшейся перед турниром) атакующая мощь канадской команды была беспрецедентной и просто устрашающей. По воротам американцев в ходе той игры было сделано 96(!) бросков - чуть ли не мировой рекорд за всю историю IIHF (The Ottawa Journal · 26 Feb 1955, p16). Победа со счётом 12:1 в первом матче турнира сделала канадцев бесспорным фаворитом.
Историкам на заметку: в долгом 65-летнем багаже встреч сборных СССР и Канады на чемпионатах мира игра 1955 г. остается единственным сухим (нулевым) поражением нашей команды. Первая половина встречи проходила при нашем игровом превосходстве: мы значительно дольше владели шайбой, коллективные действия хоть и не очень ладились, но заставляли канадцев действовать на пределе сил. Выручал отличный вратарь Айвэн (Иван) Маклелланд (месяц назад он отпраздновал 90-летие!), защитники отважно бросались под шайбу. Тактика соперника была крайне примитивной – вброс шайбы в нашу зону и борьба за её возврат. Но упорство и неутомимость канадцев поражали. Именно так, внешне почти стихийно и были забиты первые две шайбы в наши ворота. Наш лидер Бобров был нейтрализован настолько, что не смог произвести более одного броска по воротам соперника (имел лишь один шанс забить гол – см. фото ниже), быстро исчерпал соревновательный настрой и, по словам канадцев, уже после первого периода перестал быть угрожающим фактором. Так называемый body-checking (контактно-силовое преследование) канадцев породило у многих игроков психологическое смятение и разрушило слаженные действия и тактические построения.


Существует и общедоступна кинозапись матча сборной СССР с «Penticton Vees». Неоднократный её просмотр позволил найти два - три 100% голевых момента, созданных нашими игроками. Да и они были мгновенно устранены канадскими защитниками, что хорошо видно на этих, хоть и некачественных, кадрах. Степень нашей психологической подавленности была столь значительной, что после пятого гола, забитого нам щелчком от синей линии, вратарь Пучков покинул площадку, отказавшись продолжать игру.


Клуб «Penticton Vees» оправдал вожделенные чаяния всей Канады – его победа в чемпионате мира 1955 года была беспрекословной. Более половины населения Канады, не отрываясь во время рабочего дня от радиоприемников, следила за ходом этого матча, приближавшего страну к долгожданному (2 года) чемпионскому титулу. «Vees» удалось вернуть Канаде доминирование в виде спорта, который она считала кровно своим. Впервые в истории канадского хоккея прямой радиорепортаж о матче Канада – СССР вел из Западной Германии несравненный Фостер Хьюитт (Foster Hewitt) (самый знаменитый хоккейный радио- и телерепортер Канады, создавший в 1952 г. бессменную вещательную программу «Хоккейный вечер в Канаде»), специально прилетевший из-за океана на решающую встречу.
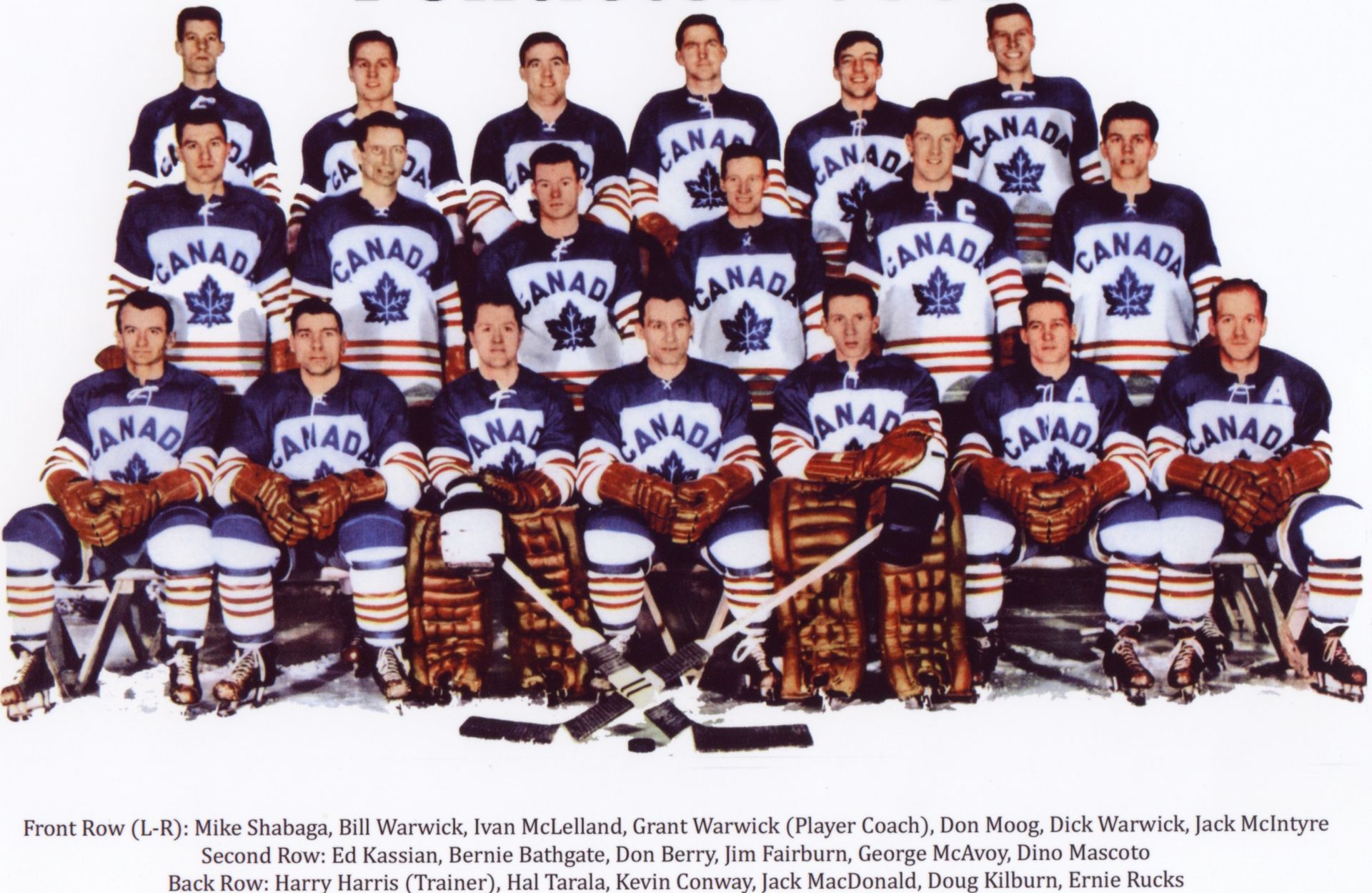
Анатолий Тарасов второй год подряд присутствовал на чемпионате мира в качестве наблюдателя. Спустя годы в одной из своих монографий он делился впечатлениями от игры «Penticton Vees». Роль тренера (играющего!) Г.Уорвика в победной игре канадского клуба Тарасов расценил как главествующую. Особенно его впечатлила убежденность лидера канадцев в необходимости строить игру команды только на основе собственных игровых преимуществ и достоинств. Максимальное использование которых должно возобладать над стремлением использовать слабости соперника. В советской прессе, как можно догадаться, поражение комментировалось довольно скупо, но с острожным оптимизмом в отношении возможностей наших хоккеистов на предстоящих через год зимних Олимпийских играх в Италии (Кортина д’Ампеццо). Итоги сезона сборной команды СССР Секция хоккея Госкомспорта расценила как удовлетворительные. По возвращении вице-чемпионов на родину не было и намека на торжества образца годичной давности. Как выражался гораздо позднее А.В.Тарасов: «В наше время за серебро увольняли».
Олимпийские игры 1956 г.
Возвращаясь к лейтмотиву нашего исследования, подчеркнём, что к началу сезона очередных Зимних Олимпийских игр (1956 г.) советский спорт ставил перед собой весьма амбициозную задачу – победу в общекомандном (неофициальном) зачёте. К тому имелись все объективные предпосылки: успехи в тех зимних видах спорта (лыжи, коньки), где в нашем активе уже были победы в чемпионатах мира. Хоккей не являлся в этом отношении исключением. Но стремясь к победе на хоккейном олимпийском турнире, спортивное (и, прежде всего, хоккейное) руководство СССР уже понимало, что главным соперником на этом пути будет только Канада. Казалось бы, позади всего два сезона, в которых эти команды встречались лишь два раза. А Канада уже неотвратимо сделалась нашим доминирующим оппонентом. Уважаемые и титулованные соперники последних без малого 10-ти лет, такие же, как и мы чемпионы мира (в недавнем прошлом) сборная ЧССР и сборная Швеции, не вызывали такого «раздражения» и одновременно опасения, как канадцы. Например, со сборной Чехословакии наши хоккеисты в статусе национальной сборной ранее сыграли 7 официальных матчей: в 5 одержали победу, и только 1 проиграли. А ведь именно эта хоккейная школа была нашим первым экзаменатором на международной арене. Но обидное и неоспоримое поражение от Канады годом ранее твёрдо обозначило приоритетного соперника.
Мы убеждены, что советские тренеры – А.И.Чернышев и В.К.Егоров, исходя из сверхзадачи на предстоящем олимпийском турнире, удачно предусмотрели один важный аспект в подготовке к состязаниям в Кортина д’Ампеццо. Варясь уже почти 10 лет только в европейской хоккейной кухне, мы имели очень поверхностное представление о канадском хоккейном феномене – всего двух очных встреч в течение последних лет было явно недостаточно. Но в Европе, совсем не так далеко, как за океаном, существовал миниатюрный слепок канадского хоккея. Это были команды Английской Национальной Лиги (в 1954 году переименованной в Британскую Национальную Лигу), существовавшей с 1935 года. Лига была откровенно профессиональной, в ней соревновались 6 клубов, в каждой команде 70-80% игроков были урожденными канадцами! Многие из них перед эмиграцией или рабочим переездом в Великобританию успели 1-2 сезона поиграть в Канаде за юниорские команды. Это был хороший спарринг-партнёр для обретения и закрепления навыка противоборства канадскому стилю игры. Все клубы имели добротные и вместительные (даже до 10.000 зрителей) крытые стадионы с искусственным льдом. Наконец, к их чести надо отметить, что они регулярно и неоднократно в 1950-52 годах побеждали канадских чемпионов мира и Олимпийских игр во время их турне по Великобритании. Lethbridge Maple Leafs и Edmonton Mercurys потерпели суммарно в те годы 12(!) поражений от британцев. А Penticton Vees, не успев привыкнуть к званию чемпионов мира, по дороге домой проиграли в Лондоне клубу Harringay Racers 3:5.
Сборная СССР в ноябре-декабре 1955 года провела в Лондоне, Париже, Стокгольме и Москве 7 матчей с клубами Соединенного Королевства и во всех победила (41:11).
Состав советской хоккейной сборной на турнире VII зимней Олимпиады был обновлён незначительно в сравнении с 1955 годом. Дебютантами стали защитник Сидоренков и нападающие Пантюхов и Никифоров. Боевой костяк сборной СССР оставался неизменным третий год подряд. Именно такая стабильность состава, единство игроков и тренеров в стремлении к победе обеспечили нашей команде заслуженный триумф и славу первого для нашего хоккея олимпийского чемпионства.
Перипетии победного 5-кругового Олимпийского хоккейного турнира всем хорошо известны. Остановимся лишь на решающем матче с командой Канады.
Как и ранее на мировых форумах страну представлял обладатель Кубка Аллана. Этот титул в 1955 г. уверенно завоевала команда «Kitchener Waterloo Dutchmen» (KWD), и, как было узаконено в КЛХА, ей предстояло в 1956 г. «представлять Канаду на международной арене». Клуб из небольшого городка (около 100.000 населения) на юге провинции Онтарио готовился к участию в Олимпийских играх очень ответственно и непросто. Во-первых, обнаружились трудности с комплектованием состава при оформлении заявки в МОК. Невыгодно для Канады сработали отличия в трактовке любительского статуса спортсменов (см. выше) – сразу 4 основных игрока не соответствовали олимпийским требованиям. Их пришлось заменить игроками запасного резерва. Лучший нападающий KWD (более 1,5 очков за игру в 318 матчах/6 сезонов) Кен Лауфман (Ken Laufman) за месяц до отъезда в Европу перенес сотрясения мозга, что в дальнейшем потребовало ограничения его игровой нагрузки.
Тем не менее, как спортивные органы, так и общественность города всячески старались оказать поддержку своей команде. Традиционно проводился добровольный сбор дотаций среди горожан, многие работодатели спортсменов (в частности, фабрика по производству коньков Bauer) предоставили им оплаченные отпуска на период игр. Наряду с этим пресса проводила сравнение возможностей KWD с оглядкой на прошлогоднюю резонансную победу «Penticton Vees», игру которой президент КЛХА W. B. George «назвал образцом для подражания». Мало кто сомневался, что у «Dutchmen» имеются все средства, чтобы добиться того же результата, что и их предшественники. Хоккеисты, подогреваемые оптимизмом прессы, конечно с этим соглашались. Такая самоуверенность, как потом признавался капитан Джек Маккензи (Jack McKenzie), помешала команде заранее подготовиться к непривычным (большим) размерам европейских площадок, в частности, воспользоваться привлечением более маневренных хоккеистов.
Опустим подробности турнирного движения команд Канады и СССР к личной встрече друг с другом. Подчеркнем лишь, что канадцам для завоевания олимпийского золота требовалась победа над нашей командой с разницей не менее чем в три (3) шайбы. Кроме того, по их признанию, самоуверенность, по мере знакомства с нашей игрой в ходе турнира (особенно после победы над США 4:0), испарилась. Более всего поразил канадцев уровень атлетизма советских хоккеистов, который они ежедневно поддерживали ранними и продолжительными утренними пробежками даже в дни игр. Перед встречей наши соперники полностью отдавали себе отчёт в том, что только сверхусилия могут принести им победу.
Исход матча, помимо высокой готовности и собранности наших спортсменов, решила оптимально выбранная тактика игры. Сборная СССР, памятуя о силовом контактном стиле и тактике dump-and-chase, которые принесли успех «Vees», построила игру с акцентом на концентрированную оборону. Наша команда превосходно вела позиционную игру, отдав большую часть пространства и свободу владения шайбой канадцам. Но только не на своей 1/3 площадки. Там энергичность и бесстрашие наших хоккеистов (восхитившее канадцев падение полевых игроков под шайбу) буквально обескураживала соперника. KWD смогли сделать по нашим воротам только 23 броска, тогда как из всего 9 наших, завершавших опасные контратаки, голевыми стали два. К коллективному совершенству команды добавлялась и яркая индивидуальность игроков. Вратарь Пучков был убедительно великолепен, подарив команде вторую подряд (играя против североамериканцев!) «сухую» (shut-out) игру. Защитник Сологубов (сами канадцы считали его игроком калибра НХЛ) был настолько силен в контактной игре, что не уступал канадцам в силовом единоборстве, а чаще даже превосходил их. Всё это неотвратимо вселяло чувство безысходности в сознание канадцев. Однако они, особенно защитник Hurst и уже упоминавшийся капитан McKenzie до последних секунд игры яростно пытались штурмовать наши ворота. Как все мы знаем уже более 60 лет – всё оказалось безрезультатно. Авторитетная монреальская The Montreal Gazette вышла под титульным заголовком «Зимняя Олимпиада завершена, Канада в хоккее финишировала третьей», а специальный спортивный раздел выпустила под шапкой «Президент КЛХА: Канаде пора посылать всех звёзд» с репортажем о матче СССР – Канада «Триумф Русских над Датчами 2:0. Без дураков – канадская карта бита».
Сборная СССР по хоккею завоевала своё первое олимпийское золото, каких будет в её биографии ещё 7 (8-е золото сборной России 2018 года на турнире без лучших игроков планеты далеко не столь высокой пробы).
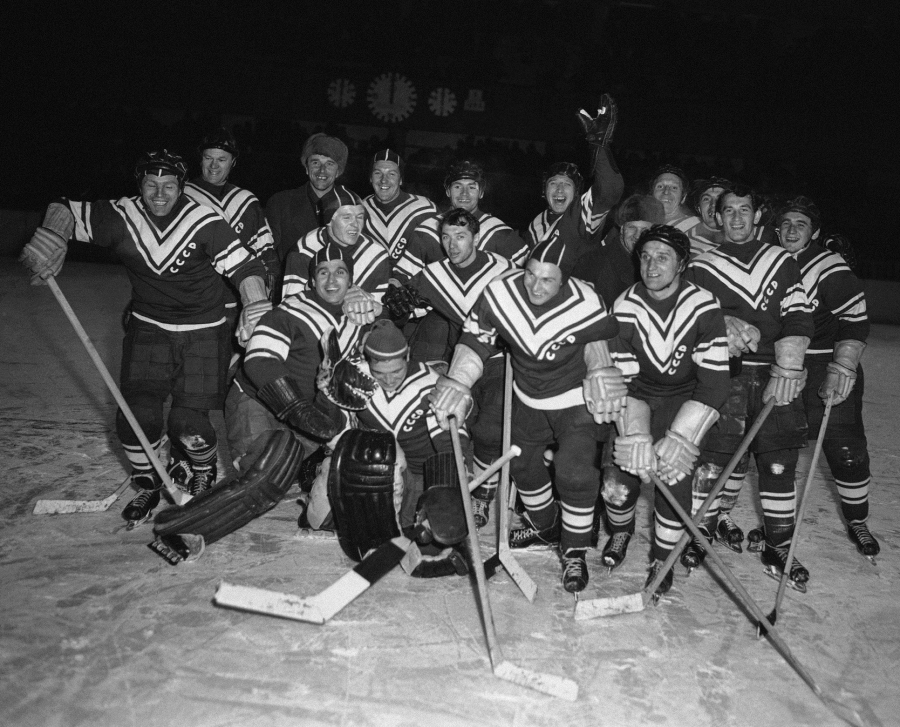
Олимпийские хоккейные аппетиты Канады всегда были максимальными. Всё, кроме первого золотого места считалось неподобающим уровню хоккея в этой стране. Первый удар по канадской гегемонии нанесла Великобритания, победив Канаду на олимпиаде 1936 года в Гармиш-Партенкирхине. Но на возобновленных после II мировой войны олимпиадах в Санкт-Морице и Осло канадцы вернули себе статус абсолютного превосходства над остальными. Кто бы тогда в Кортина мог вообразить, что 4 февраля 1956 года сборная СССР лишила Канаду олимпийского золота на целых 50 лет!

Хоккейная команда-победительница Олимпиады 1956 навсегда вошла в историю отечественного спорта как образец высочайшего спортивного мастерства, подлинной спортивной доблести, профессиональной преданности делу и патриотизма. Фактически она подвела итог работы и существования первого поколения мастеров хоккея с шайбой в СССР.
Состав команды олимпийских чемпионов был неизменным в течение 3 лет подряд и достиг своего игрового и исторического максимума в так успешно завершившемся для него сезоне 1955-56 гг. Тогда средний возраст этой команды составлял 28 лет.
Сегодня нам уже известно, что 28 лет для хоккеиста - это возраст апогея и, вместе с тем, начала спада его физических и функциональных кондиций. Даже самые выдающиеся мастера в таком возрасте не в состоянии поддерживать уровень своего мастерства в высшем его проявлении более 2-3 лет. Такова неумолимая сила природы физиологии человека, спроецированная на требования спорта высших достижений. Ровно половина игроков того победного состава превышала этот возраст. Поэтому ничего удивительного не было в том, что в следующем 1957 году наша команда на чемпионате мира (фактически Европы) в Москве (!) не сумела одержать столь желанную победу. Те лидеры и звёзды славного коллектива, которым в олимпийском году было по 30-35 лет, став на год старше, не могли при всём желании играть даже так, как это было год назад (великий капитан В.Бобров в 2 решающих матчах не забил ни одного гола). Они стали слабее и были, как это ни обидно звучит, бледной тенью своего чемпионского образа.
Поражение олимпийских чемпионов у себя на родине не могло остаться без последствий в существовавшей тогда внутриполитической системе координат. Явная утрата как спортивных, так и «внешнеполитических» позиций системы социализма требовала административных мер реагирования. Вставал вопрос об изменениях как в составе, так и в руководстве сборной СССР по хоккею. Здесь следует откровенно признать, что Анатолий Тарасов, постоянно находясь в эти годы за фасадом победных достижений нашего хоккея, испытывал чувство обиды из-за несправедливой отдалённости от руководства сборной. И в этом нет ничего удивительного, это вполне объяснимо. Тренер, команда которого около 10 лет кряду поставляла в сборную страны более половины игроков, постоянно был лишён возможности влиять на развитие и игру главной команды. Тем более, что отчасти причиной этой отстраненности была откровенная личная неприязнь к Тарасову ряда ведущих игроков ЦДСА, цементировавших сборную.
Нет ничего удивительного в том, что тренер Тарасов в ходе подведения итогов сезона – на заседаниях тренерского совета, в федерации хоккея и в открытой печати – критически оценил итоги выступления сборной СССР. Он предложил изменить методы работы в коллективе для решения в будущем новых задач. Как истинный спортсмен, воспитанный в духе постоянного стремления к достижению победных целей, Анатолий Тарасов обозначил свой личный вызов (журнал "Спортивные Игры, 1957 г.) хоккейной общественности, не скрывая намерений возглавить сборную команду Советского Союза.
Турне по Канаде
Удивительно, но этому важнейшему событию в истории и судьбе нашего хоккея (ноябрь-декабрь 1957 г.) долгое время не придавали должного значения. Даже сам А.Тарасов, инициатор и дирижер этого исторического мероприятия, не баловал любителей хоккея нашей страны подробностями описания тех соревнований. В течение последующих 15 лет он лишь эпизодически в своих реминисценциях возвращался к тем событиям. Тогда в журнале «Спортивные игры» председатель Всесоюзной секции хоккея П.Коротков довольно красочно отчитался о результатах поездки (источник). Когда к дате 30-ой годовщины исторической серии встреч NHL – СССР 1972 г. в североамериканской масс-медиа поднялась волна воспоминаний под девизом «September-To-Remember» (Незабываемый Сентябрь), у многих специалистов и знатоков хоккея в России возникло желание оживить аналогичные воспоминания, но под девизом «November-To-Remember» (Незабываемый Ноябрь) о нашей сборной 1957 г. в Канаде. К счастью в журнале (?) «Российский хоккей» №1 2009 г. Валентин Кузьмин опубликовал великолепно иллюстрированные воспоминания В.Быстрова (источник). Чуть позже на Форуме хоккейных статистиков Виктора Малеванного появился рукописный текст дневника Александра Новокрещенова, который он тщательно вёл, работая в составе нашей делегации в турне по Канаде (а спустя 5 лет стал Заслуженным тренером СССР). Вышеуказанные бесценные материалы почти исчерпывающе живописуют как практические, так и теоретические итоги этого исторического хоккейного события.
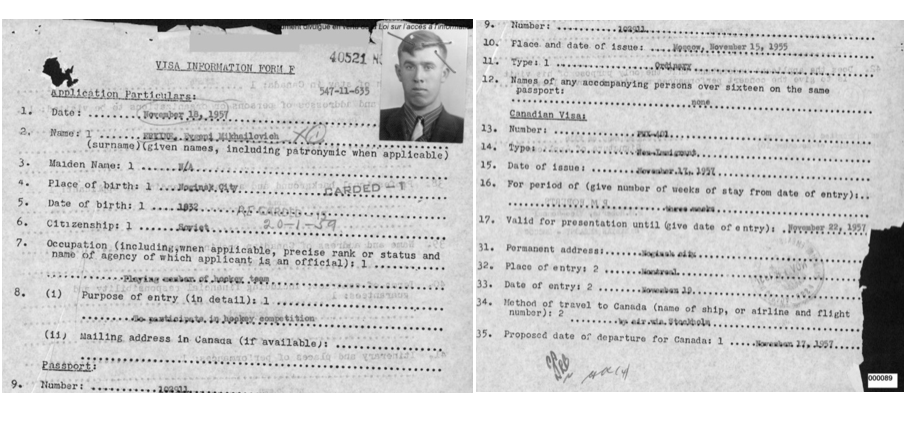
В августе 1957 г. Управляющий секретарь КЛХА Джордж Дадли (George Dudley) обратился к Премьер министру Канады Джону Дифенбейкеру (John Diefenbaker) с просьбой о поддержке официального приглашения советской хоккейной команды и гарантии получения всеми членами советской делегации въездных виз в Канаду. Получение виз в эту страну для советских граждан резко ужесточилось после скандального предательства шифровальщика советского посольства в Оттаве Игоря Гузенко летом 1945 г. Независимо от профессии въезжающих граждан СССР (в те годы их число было ничтожным), за ними устанавливалось постоянное наблюдение силами RCMP (Королевская Канадская верховая полиция) на весь период их нахождения в стране. Наши хоккеисты, как позднее выяснилось, не были исключением.
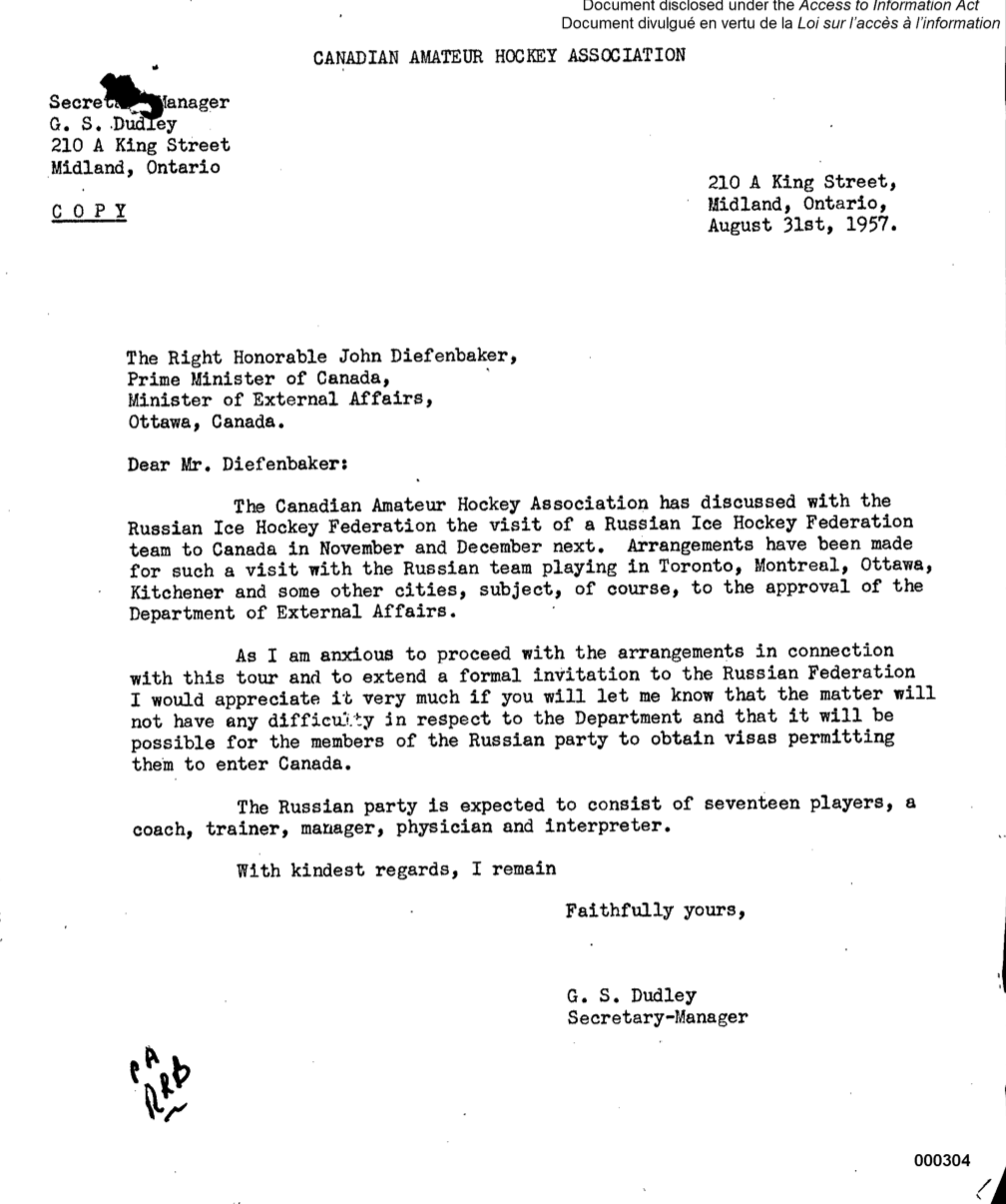
Возглавлял нашу делегацию Председатель секции хоккея Спорткомитета, вышеупомянутый полковник (канадская пресса с особым удовольствием делала на этом акцент) Павел Коротков. Ответственность руководителя в первой заокеанской поездке хоккеистов СССР была чрезвычайно высокой. Не удивительно, что выбор пал именно на Короткова. Кто, как не родной брат руководителя нелегальной разведки КГБ СССР, мог надежно оградить неопытных молодых советских спортсменов от «растленного влияния вероломного Запада». Понятно, что о факте такого родства руководителя нашего хоккея тогда никто знать не мог. Но вернёмся к самому хоккею.
Анатолий Тарасов после первых неудач турне (2:7 с «Whitby Dunlops» и 2:4 против «Kitchener Dutchmen») на послематчевых брифингах больше ограничивался эмоциональными, нежели аналитическими ремарками. Игра «Dunlops» против советской команды, впервые вышедшей на лёд в этой стране, была для канадцев принципиальной. Ведь последняя встреча с «этими русскими» в Кортина (1956) оставила глубокую рану потери титула олимпийских чемпионов.
Премьеру нашего дебютного выступления в Канаде стоит разобрать подробно, с позиций обеих сторон. Никак не хочется оправдывать наших спортсменов, хотя всем (и хозяевам, и гостям) было понятно, что перелёт через океан и jet lag (синдром нарушения биоритмов человеческого организма, вызванного быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте, проявляющийся сонливостью, быстрой утомляемостью и нивелируемый после 3-4-дневной адаптации) не могли не сказаться на их физическом состоянии. Тем более, что они испытали его впервые в жизни. Также впервые наши хоккеисты играли на закрытом стадионе (см. А.Новокрещенов).
«Whitby», обладатель Кубка Аллана (клуб, «обреченный» представлять Канаду на Чемпионате мира в Осло, март 1958) провёл игру в манере активного форчекинга, используя в атаке тактический принцип dump-and-chase (вброс шайбы в зону соперника, погоня и борьба за неё – это хорошо видно на популярной кино-телезаписи, когда канадцы забивают нам 6-ой гол). Для хоккеистов, которые с канадской командой никогда не встречались (а их было в составе большинство, а остальные имели куцый опыт 2-3 встреч), такая манера действий атакующего противника порождала растерянность. Приспособиться к ней нашим удалось лишь к середине игры, но к концу второго периода на табло было уже 5:2, несмотря на то, что мы повели в счете 2:0. В третьем периоде хозяева уверенно довели матч до крупной победы. Добавим, что ещё один фактор отрицательно влиял на действия наших игроков – непривычные (меньшие по размерам) площадки. В «стесненных» условиях вдоль лицевого борта своей зоны наши защитники становились лёгкой и быстрой добычей двух форвардов соперника, привычно использующих «спаренный отбор» шайбы. Хозяева превзошли нас по броскам в створ ворот вдвое: 35 – 17. «Канадцы преподали нам урок, - отметил Коротков, - но мы приехали сюда учиться. И всё же наша команда сыграла слабее, чем могла». Тарасов добавил, что игроки совершили много ошибок, но это никак их не оправдывает. «Я не ожидал, что любительская команда может быть такой сильной!» (подобную аргументацию уже 5 лет спустя Тарасов себе не позволял, а подобные высказывания коллег открыто порицал). «Dunlops» намного сильнее, чем «Kitchener» (подразумевался олимпийский состав 1956 г.). Они больше полагаются на разум, а «Kitchener» на физическую силу». Тарасов подчеркнул, что непривычно накалённая атмосфера переполненного Maple Leaf Gardens (14.327 зрителей), арены «Toronto Maple Leafs» (ТМЛ), сковывала игроков. Качество льда он оценил как великолепное. На результате дебютной игры не могла не сказаться ранняя замена Н.Пучкова его дублёром Ёркиным. Серьёзным основанием для этого была травма нашего лучшего вратаря, случившаяся за 3 недели до турне. По версии же Тарасова наш основной вратарь регулярно (даже в начале встречи при счёте 2:0) высказывал «неверие» в возможность побеждать канадцев, и тренер вынужден был заменить его на эксцентричного дублёра. Ёркин, используя вольную технику и тактику действий, совершил в той игре много грубых ошибок. Такое краткое описание этого матча всё же позволяет оценить непривычные условия, в которых оказались (никогда не были!) наши хоккеисты. Как считали руководитель делегации и тренер, это и было главной целью поездки, направленной на обретение нового соревновательного опыта на родине хоккея для совершенствования мастерства.
Было очень интересно узнать мнение канадских экспертов об игре наших хоккеистов. Бобби Бауэр (Booby Bauer), тренер клуба «Kitchener», проигравшего Олимпиаду-56, сказал, что слегка разочарован игрой гостей. «На меня произвела сильное впечатление их тренировка, которую я наблюдал день назад. Их броски и техника владения шайбой чрезвычайно улучшились за полтора года. Почему-то сегодня они мало этим пользовались. «Whitby» очень подходящая команда для борьбы с русскими, поскольку имеет рослых мощных центральных нападающих, которые способны доминировать в зоне атаки».
Прежде чем коснуться успешных матчей нашей сборной, нельзя не обсудить состав команды, которому тренерский совет доверил это турне. Уже беглый взгляд даёт понять, что преобладало мнение Тарасова – бесспорное право главного тренера. Позднее, через годы А.В. утверждал, что подбирал игроков для быстрого и «юркого» хоккея, способного противостоять прямолинейно-силовому, совсем не маневренному канадскому стилю. Думается, в этой запоздало сформировавшейся трактовке есть элемент некоего лукавства и самоубеждения.

Нам же, спустя годы, видится в привлечении таких игроков некий просчёт и упущенный шанс. Безусловно, тренеру было необходимо, прежде всего, проверить свои концептуальные воззрения на игру (а он в них почти не сомневался!), сопоставить два разных стиля и оценить вероятность преобладания плюсов «русской» модели игры над канадскими минусами. На «вражеской территории», да ещё и в 8 матчах, это должно было получиться лучше всего. Такое осознание своей правоты открывало перед Тарасовым направление и горизонты развития советского хоккея. А вот для большинства зрелых игроков того состава подобных перспектив итоги этого турне не сулили.
Вспомним наши рассуждения о возрастном пределе плодотворной хоккейной жизни спортсмена и обратим внимание на эту характеристику состава «сборной Москвы». Из 10 новобранцев команды (Локтева и Александрова можно тоже к таковым отнести) шестерым было под 30. Остальная половина состава ещё на Олимпиаде-56 практически достигла возрастного плато (даже миновала его), за которым начинается спортивный спад. Лишь С.Петухов, В.Александров (им было тогда по 20) и К.Локтев впоследствии смогли передать эстафету навыков «антиканадской» игры следующему поколению. Других, способных на это, просто не было в составе команды. Наши герои 50-х – Гурышев и Хлыстов, Сологубов и Трегубов, Елизаров и Уколов, даже Пучков - ментально были способны лишь на адаптацию (аккомодацию) к канадскому стилю, не располагая возможностями и лишенные навыков игрового доминирования над соперником. И это мы могли наблюдать в последующие 3 года, за что сегодня (да и вчера!) многие сладострастно пеняют Тарасову. Скорее всего, готовясь к первому визиту в Канаду, предвкушая непосредственное знакомство с «эталоном» хоккея в его первозданном виде, Тарасов не заглядывал далеко вперед – решал этапную задачу в развитии нашего хоккея, искал подтверждения возможности собственного пути. Но впервые возглавив сборную, не мог он не понимать, сколь высок будет с него спрос за результат на очередном чемпионате мира. Возникала диверсификация задач, требующих одновременного решения. Стратегические планы, как видим и знаем, вызрели и сложились позднее.
Немного забегая вперед и завершая эту тему, позволим себе одно частное воспоминание. Однажды, в начале 90-х, Анатолий Владимирович с неподдельной горечью признался, что состав на Олимпиаде в Скво-Вэлли (см. ниже) стал для него (внутри себя) несмываемым позором. «Ещё не иссякла тогда инерция приспособленчества к канадцам в силу тщетного стремления их побеждать постепенно слабеющим ресурсом. Хотя, проиграв в 1958-59, чувствовал, что время обновления состава давно наступило. И ведь были уже Майоровы и Старшинов, Юрзинов, В.Якушев, Давыдов, Иванов – всем по 20-22! Взял же тогда Альметова! А ещё кого-нибудь взять струсил».
Не избежать и нам склонности к сослагательному наклонению в истории о прошлом нашего хоккея. Сегодня кажется очевидным, что если бы эта когорта молодых, трудолюбивых и одарённых хоккеистов попала бы в «канадскую мясорубку» (любимое определение Тарасова) уже в 1957 г., то гегемония советского хоккея могла бы начаться уже в 1960 г. на Олимпиаде в Скво-Вэлли.
Продолжим наше ретроспективное путешествие по Канаде 1957 г. вместе с нашими хоккеистами. Сборную Москвы всюду официально сопровождал один из руководителей КЛХА (CAHA) Джек Роксбург (Jack Roxburg). Он утверждал, что во второй игре москвичей с «Windsor Bulldogs» (счёт 5:5) русские заслужили победу, т.к. не был засчитан один забитый ими гол. Никто не заметил (кроме канадского вратаря Эдвардса), что после сильного броска шайба, прорвав сетку ворот, вылетела наружу и оказалась у лицевого борта. Тарасов, узнав об этом, бравировал тем, что для нашей команды в этом турне важны не победы, а учёба и обретение опыта. В том матче русские впервые «перебросали» канадцев: 40 - 35.
«Помните, как «Whitby Dunlops» «порвали» русских за счёт неутомимого форчекинга в Торонто?» - напоминал Роксбург. «Когда же русские вышли против «Windsor», они сами старательно применяли форчекинг. Тарасов за день до своей игры наблюдал матч «Kitchener» - «Windsor». После этого он провёл собрание команды, где подробно разобрал сильные и слабые стороны соперников буквально по персоналиям». Пока Тарасов был на игре в Китченере, большинство игроков ждали его в Виндзоре. Но одному трио форвардов было поручено остаться в Торонто и наблюдать игру «Toronto» - «Detroit» с заданием оценить технику и тактику использования силовой борьбы. «Зачем вы учитесь применять силовые приёмы, ведь их так мало в европейском хоккее?», - поинтересовался Роксбург у Тарасова. «Мы учимся не применять силовую борьбу, мы учимся тому, как её избегать и ей противостоять», - последовал ответ.
Тренер «Kitchener», второго соперника нашей команды, Bill Durnan признал, что его парни испытывали нервозность перед игрой с русскими. Их тяготила ответственность за необходимость реванша за поражение клуба на Олимпиаде в Кортина-56. Местный восьмитысячный стадион «Memorial» был переполнен как никогда. По-прежнему нервничавший из-за травмы Н.Пучков, прозевал щелчок из средней зоны Дона Роупа – так был открыт счёт. Постепенно, справившись с волнением, канадцы уверенно вышли вперед 3:0 в первой половине игры. Борьба была равной (броски по воротам 27:24, удаления 4:3 в пользу канадцев), но хозяева отстояли свою честь. Коротков и Тарасов, поздравив и поблагодарив «Dutchmen» после игры в раздевалке, посетовали на поощрение судьями грубой игры. Так, на наш взгляд, ещё долго (до 1969 года) трактовалась нами канадская неспособность переключать свой родовой инстинкт неограниченной силовой борьбы на европейскую трактовку правил международной федерацией хоккея.
Самые поучительные для нас матчи были позади. Москвичи, укрепив навык стойкого восприятия ураганного штурма канадцев в начале игры, адаптируясь к условиям dump-and-chase и применению спаренного отбора шайбы соперником, все оставшиеся игры провели уверенно и победно. Хочется перед подведением итогов поездки задержать наше внимание на двух встречах с юниорским дублёром «Montreal Canadians» (МК) клубом «Hull-Ottawa Canadians».
Первый матч русских против фарм-клуба великого «Монреаля» был назначен на воскресенье 1 декабря 1957 г. в знаменитом «Форуме». А за сутки до этого (30.XII.1957), там же хоккеисты из СССР были гостями матча команд НХЛ и наблюдали, как хозяева разгромили «Чикаго Блэк Хоукс» 6:1. По окончании матча русские через переводчика (Roman Kiselev) впервые (!) высказали пожелание о встрече в будущем с «Montreal Canadians» на равных условиях, и об этом сообщили канадские газеты (The Gazette, Monday, December 2, 1957).
Итак, 30 ноября 1957 г.! Думается, это было первое публичное заявление с советской стороны о желании соревноваться с НХЛ (и состоялось оно только через 3 с лишним года после инициатив К.Смайта и Т.Гормана в марте 1954 года). Последовала ли за этим какая-либо реакция от грандов НХЛ, мы попробуем разобраться позже. А пока вернёмся к матчам с «Hull-Ottawa».
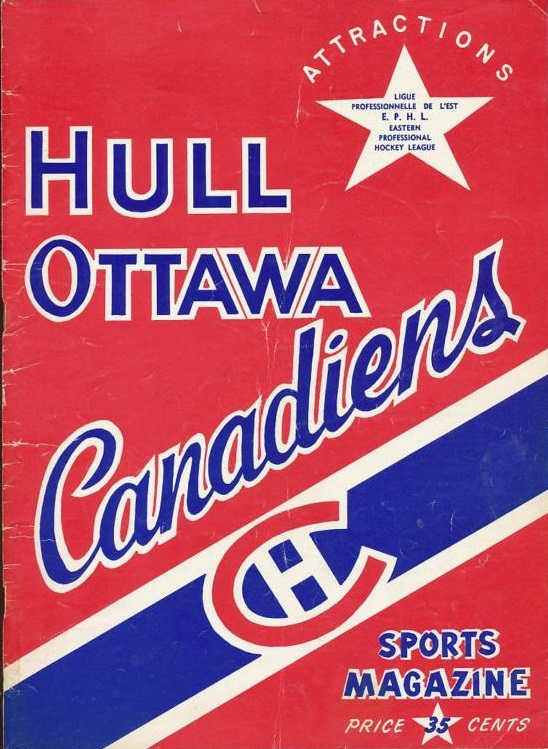

Это был типичный фарм-клуб, где играли 19-20-летние перспективные игроки, таланты, подмеченные и отобранные скаутами «Montreal Canadians». Несмотря на свой юниорский возраст, команда играла в соревнованиях взрослых команд Хоккейной Ассоциации Онтарио А (Восточный дивизион). Там её соперниками были (или могли стать в playoff) известные нам Whitby Dunlops, Kingston CKLC, Sudbury Wolves, Windsor Bulldogs, и будущие наши оппоненты Belleville McFarlands и Chatham Maroons. Молодёжь в этой лиге проводила за сезон чуть меньше матчей, чем старшие соперники (36<52), но играла нередко и в выставочных встречах (до дюжины в сезон), немногим, не дотягивая суммарно до 50. И эти показатели соответствовали ежегодной соревновательной активности (число матчей) лучших советских хоккеистов. В играх с нами в состав Hull-Ottawa входили будущие звёзды и просто игроки «Монреаля» Бобби Руссо, Ральф Бэкстрём, Жиль Трембле, Жан-Клод Трембле, Клод Рюэль, Билл Хикки. В 1-ой игре с нашими их усилил Брюс Гэмбл, будущий многолетний голкипер «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Во втором матче усиление из фарм-клуба «Торонто» состояло из таких будущих ярких НХЛовцев, как Карл Брюер, Боб Невин и Уоли Бойер. В довершение портрета этой команды невзначай добавим, что в том сезоне её тренером был Скотти Боумэн, а главным менеджером Сэм Поллок (оба выделены на снимке) – делавшие в большом хоккее первые шаги, будущие столпы НХЛ на долгие годы!
Первое противостояние с "Монреалем"

Итак, два упомянутых выше канадских специалиста, ставшие впоследствии выдающимися деятелями мирового хоккея, впервые столкнулись с командой Тарасова в далеком 1957 году. Наш тренер был значительно старше Боумена (1933 г.р.) и немного старше Поллока (1925 г.р.), хотя ему самому было только 38. Их пути в дальнейшем не пересекались почти 20 лет, но за эти годы каждый добился выдающихся успехов в хоккее. Наконец, 31 декабря 1975 года их команды встретились вновь. Это были лучшие на тот момент клубы мира (Северной Америки и Европы) - «Montreal Canadiens» и ЦСКА. На льду знаменитого «Форума» Боумэн и Поллок не сумели победить созданную Тарасовым команду, которой тогда уже руководил его ученик К.Локтев. 3:3. Невиданный по напряжению и красоте хоккейный матч по сей день считается одним из лучших в истории игры.


Этот осознанно проложенный нами во времени мостик даёт право уже в начале нашего повествования задать читателю вопрос: сделал ли что-нибудь А.Тарасов для того, чтобы встречи команд НХЛ и СССР стали реальностью?
Здесь, в связи с обсуждением событий 1957 г., нельзя не выразить преклонения перед Скотти Боумэном (излишне говорить о его уже незыблемых на все времена тренерских рекордах). В интервью от 28.02.2020(!) американскому спортивному и финансовому(!) репортёру Gillian Kemmerer выдающийся тренер в деталях и безошибочно вспоминал события более чем 60-летней давности, отдавая должное игре «странной», но очень боевой и целеустремлённой русской команды. (https://www.thecaviardiplomat....)
Вернёмся в 1957 год, посмотрим на подведение итогов турне обеими «сторонами конфликта».
Начнём с того, что визит «москвичей» в Канаду был первым в истории канадского хоккея приездом заокеанских хоккеистов. И первоначальная ироничность и настороженность восприятия нашей команды Канадой постепенно сменялась твёрдо позитивной оценкой хоккея, приехавшего из СССР. Тот же Сэм Поллок, поостыв от поражения, признался хоккейному колумнисту Toronto Daily Star: «Я просто восхищен. Всё, что они делали слабо до этого дня, они исполняли безошибочно сегодня. Они выучились прессинговать, как активно, так и пассивно. Передачи их точны и прицельны, броски совершенны. Их вратарь всё отбивает. Боюсь представить, как они будут сильны на больших площадках Европы». Через несколько дней Поллок продолжал свои рассуждения: «Победу «Dunlops» в самой первой игре против русских следует поскорее забыть. Игра по международным правилам будет огромным препятствием для победы над русскими любой нашей любительской команды. Никто, кроме клуба НХЛ, не способен их победить в игре по международным правилам».
«После двойного поражения Советам (3:6 и 1:10) мне пришлось изменить своё представление о них. Просто невероятно, насколько отличие международных правил от канадских способно затруднить нашу игру. В прошлую пятницу у нас было 22 минуты штрафного времени – более одного периода игры. По правилам европейцев айсинг в меньшинстве недопустим, что вынуждает обороняющихся практически всё время удаления проводить в своей зоне. Владение передачами русские довели до совершенства. Это позволяет им хозяйничать в чужой зоне при численном превосходстве. А когда они завладевают шайбой у себя, то за счёт одного-двух острых пасов стремительно перемещаются в чужую зону. «Dunlops» следует провести в Европе минимум 8-10 игр, иначе им не удастся адаптироваться к международной трактовке правил. Они лучшая любительская команда Канады, достойный обладатель Кубка Аллана. Поэтому всем должно быть ясно, что возвращение звания чемпионов мира потребует от них очень большой подготовительной работы и огромных усилий».
Канадская общественность была приятно удивлена, обнаружив детальный и весьма лестный анализ итогов выступления «москвичей» в Канаде, напечатанный в день отъезда нашей делегации в «Soviet News Bulletin» («Бюллетень Советские Новости»), издаваемом Советским посольством в Оттаве на английском языке. Павел Коротков и Анатолий Тарасов были авторами этого внушительного текста. Он изобиловал восторженными отзывами об игре канадских клубов, характеризовавшихся «творческим духом, независимой техникой игры, быстротой решений и великолепной реакцией». Особое впечатление на гостей произвела инстинктивная способность канадцев «принимать, находясь на льду, единственно верное решение в самое нужное время». Критике подверглась зависимость действий канадцев от схематических игровых догм. Однако гости подчеркнули «отличную маневренность канадских игроков, совершенное владение корпусом и высокую устойчивость на ногах». Впечатлило их в действиях канадских спортсменов «необычайные упорство и устойчивость в силовых единоборствах», хотя это «не является главной целью хоккея». «Если это мешает решению тактических задач игры, то маловероятно, что зрителю будет импонировать силовая и грубая игра, от которой всего один шаг до увечья». Особо высокой оценки заслужили голкиперы канадских клубов, которых Тарасов назвал лучшими в мире.
Сегодня, спустя 60 с лишним лет, некоторые утверждения наших хоккейных руководителей того времени звучат откровенно смешно, но речь шла о том, что в СССР «предпочитают профессиональному хоккею любительский, хотя и «завидуют» искусству игроков профессиональных команд. Профессиональный хоккей не может быть средством (способом) укрепления здоровья человека, и не случайно игры профессиональных команд носят жестокий характер. Очень часто игроки преследуют цель причинить сопернику боль».
Вполне понятно, что в посольском бюллетене, по горячим следам, руководство советской хоккейной делегации наряду с благодарностью и похвалой канадским хозяевам не могло не отметить «недостатки» капиталистического отношения к спорту.
Как указывалось, выше, на Форуме хоккейных статистиков Виктора Малеванного приведен ряд отчётов и воспоминаний об этой поездке руководителя делегации и участников этого турне.
Канадская печать, официальные организации, представители НХЛ оценили итоги визита сборной Москвы в Канаду с совершенно иных позиций.
Хоккейные колумнисты ведущих газет единодушно отмечали три основных составляющих убедительных побед советской команды: высокую скоростную выносливость, безукоризненную и обезоруживающую игру в пас и «европейские» правила игры, в рамках которых проходили все игры турне. Особенно хозяева были удивлены тем, как быстро русские по ходу турне овладевали подлинно канадскими элементами и приемами игры – методами силовой борьбы, тактикой наступательных и оборонительных действий в форме форчекинга и бэкчекинга. И это «подражание» выполнялось не слепо, а творчески. Было заметно, что канадская манера действий доверялась избирательно тем игрокам, кто был к ней более расположен по своим индивидуальным возможностям. Так воспринимали нашу игру аналитики из Канады. Они старались быть предельно объективными, оценивая наряду с достоинствами наших хоккеистов и изъяны канадской манеры действий. Например, отдавая должное лихости нашей победы 10:1 в последнем матче, они признавали неизбежность поражения молодёжи Монреаля в силу их возрастной недостаточной выносливости. Тем самым они демонстрировали понимание нашего заведомого превосходства в атлетической подготовке.
Интерес канадцев к нашей игре был неподдельным, очень проницательным и скрупулёзным до деталей. Уже было известно, и в очередной раз подтвердилось, что хоккей является основным занятием советских спортсменов. Даже в большей степени, нежели хоккеистов НХЛ. Зная об отсутствии в СССР контрактно- договорной системы, в Канаде их воспринимали как гражданских служащих, работой которых является хоккей.
При обсуждении спортивных характеристик наших игроков имело место единодушное понимание, что атлетическая подготовка советских спортсменов превосходит таковую у канадцев. В телевизионном интервью Морис Ришар подчеркнул, что «поражен скоростью катания русских, которую они поддерживают в течение всей игры, и даже «Монреаль Канадиенс» будет тяжело бороться с ними». Ллойд Персиваль (мы позднее ещё вернёмся к этому персонажу), уже тогда знаменитый и лучший спортивный физиолог Канады, измерял скорость катания русских и обнаружил, что некоторые из них заметно превосходили по этому показателю лучших «спринтеров» НХЛ (скорость Н.Хлыстова после ускорения достигала 46 км/час). Канадцев поразила лёгкая амуниция и особенно клюшки наших хоккеистов. Игрок ТМЛ Брайан Каллен, попробовав русскую клюшку на льду, утверждал, что чувство шайбы и точность бросков с ней значительно лучше, а материал, из которого они сделаны, загадочен.
Наконец, как уже упоминалось выше, на всех сильное впечатление произвели тренировки русской команды. На её самой первой «раскатке» в MLG присутствовал один из лучших менеджеров МК Ken Reardon, руководитель фарм-системы клуба. «С первой минуты тренировки я понял, что их турне пройдёт весьма успешно. Это ощущение особенно усилилось, когда я увидел, как они носятся по кругу площадки, неустанно сильно передавая шайбу и легко принимая её на огромной скорости то крюком клюшки, то коньком. Такого ранее я нигде не видел».

Сдесь мы позволим себе отклониться от завершения описания поездки наших хоккеистов в Канаду. Но при этом, оставаясь в прежней хронологической фазе изложения, временно перейдём к главному лейтмотиву нашего повествования в целом.
Отдельные (очень немногие!) компиляторы истории нашего хоккея упорно и злобно навязывают нам суждение о том, что А.В.Тарасов своей неудержимой публицистической активностью (изданием статей, монографий, выступлениями перед прессой, особенно за рубежом) завоевал, прежде всего, в Канаде, якобы незаслуженную популярность. Будто именно от этого и пошло на Западе расхожее определение «конструктор советской хоккейной мощи», «отец русского хоккея». В этой связи мне хочется рассказать об одной беседе, которая у Тарасова состоялась в ходе приёма в Посольстве СССР в Канаде.
Посол Советского Союза Дмитрий Сергеевич Чувахин с супругой устроили приём в знак успешного установления советско-канадских хоккейных отношений. Он состоялся в помещении посольства 5 декабря, за сутки до заключительного матча наших спортсменов. Были приглашены руководители КЛХА, районного отделения КЛХА Оттавы, представитель руководства «Монреаль Канадиенс» Кен Реардон с супругой, ряд ветеранов НХЛ и КЛХА, хоккейные редакторы крупных канадских газет. Советская спортивная делегация во главе с Павлом Коротковым была в полном составе. Проблем с языковым барьером практически не возникало, профессиональный переводчик делегации Роман Киселёв, сотрудники посольства и работающие в Канаде советские журналисты охотно помогали собравшимся понимать друг друга.
Тарасов, оказавшись в кругу репортеров, охотно беседовал с ними о хоккее. Ему в переводе ассистировал Владимир Вашедченко, соб.-корр. ТАСС в Канаде. Парировав довод канадцев о том, что он в хоккее всего 10 лет (как и весь Советский Союз), Тарасов возразил, что ещё задолго до этого, с юности играл в бенди (хоккей с мячом) и футбол, и этого нельзя не учитывать. Назвав хоккей лучшей игрой на свете, он (в ответ на вопрос одного из газетчиков) уточнил, что футбол не идёт с ним ни в какое сравнение. Визит в Канаду он назвал важнейшим и очень полезным событием в его тренерской работе, и заверил, что хоккей в СССР будет и далее стремительно прогрессировать.
Кульминация этого стихийного брифинга Тарасова наступила после вопроса известного хоккейного колумниста Кинселла (Jack Kinsella). Вот короткий рассказ об этом.
«Как Вы думаете - спросил журналист - если пара канадских тренеров, глубоко разбирающихся в игре, будет работать в России, ваш прогресс в хоккее ускорится?»
Вашедченко, транслировав вопрос советскому тренеру и, тут же всё поняв, быстро сказал канадцу: «Сами напросились. Советую прикинуться наивным». Но Тарасов, по наблюдению Кинселла, не выказал и тени испытанного им раздражения, хотя ответил твёрдым, но очень вежливым и размеренным тоном.
«Для чего? Вы сами в эти дни много говорите о нашей хорошей игре. Если мы за 10 лет сумели добиться того, что заняло у вас почти 100, для чего нам нужны канадские тренеры?»
Кинселла, несмотря на дальнейшие ответы Тарасова на другие вопросы, понял, что главное в этот вечер советский тренер уже сказал.
Попытка канадского интервьюера выяснить «сколько тренеров в СССР сейчас готовят хоккеистов», казалось, поставила Тарасова будто бы в тупик. Однако он очень изящно предложил адресовать этот вопрос руководителю делегации – каждый отвечает за свой фронт.
Как вспоминал после расставания Кинселла, его последний вопрос Тарасову, вероятно, невольно получился не самым удачным. «Я предполагаю, что свои будущие хоккейные надежды Вы связываете со своими сыновьями?» Тарасов оценивающе взглянул на канадца, помедлив, чуть иронично улыбнулся и на ухо шепнул в ответ: «У меня две дочери».
Нам кажется, что именно тогда, на том дипломатическом рауте в советском посольстве, Анатолий Тарасов не только сделал заявку, но и не без основания уже ощущал себя (и никак не себя одного!) конструктором советского хоккея будущего, и заявил об этом в Канаде, на родине этой игры.
Рассказывая о подведении канадцами итогов визита сборной Москвы, нельзя не остановиться на их коммерческой составляющей.
Руководители КЛХА сами высоко оценили свою промоутерскую удачу с приглашением и приёмом сборной Москвы. В 8–ми играх гостей общее число зрителей превысило 62.000 и только в одной игре не достигло аншлага («Форум» Монреаля – 12.000 из 14.500). Доход КЛХА превысил $45.000, что полностью не только покрыло расходы ассоциации на приём гостей, а и позволило позднее финансировать поездку канадской команды в СССР (ровно через год). Эта договоренность была достигнута в переговорах П.Короткова с руководством КЛХА. Канадцам осталось лишь определить, какой клуб отправится в Советский Союз.
А тем временем пресса страны кленового листа, под влиянием свежих впечатлений от визита русских хоккеистов, начала активно обсуждать шансы Канады на ближайшем (28.02 – 9.03.1958) чемпионате мира в Осло. Представлять родину хоккея на этом турнире, как уже говорилось, должен был печально (2:7) знакомый нам клуб «Уитби Данлопс» из провинции Онтарио. Он был обладателем Кубка Аллана 1957 года. Команду с апреля 1955 г. содержал завод (фабрика) Dunlop, производящий автопокрышки (дочерняя канадская ветвь международного альянса Dunlop Tire and Rubber Company) в городке Whitby (население около 70.000 человек).
Почти за три месяца до начала мирового первенства канадцы уже изучали малейшие подробности предстоящего турнира (в СССР традиционно информация такого рода была весьма скудной). В ранжире соперников приоритет отдавали сборной СССР. Уважительно отзывались о сборной Чехословакии, называя её одной из самых искусных команд «Большой пятерки». Ожидали увидеть сильную сборную США, которая, как и канадцы, 2 года не соревновалась с европейцами. Формат турнира должен был определиться на конгрессе LIHG в Копенгагене в январе 1958 г., скорее всего он ожидался круговым. Главный хоккейный стадион Осло Jordal Amphi (арена под открытым небом) вмещает до 10.000 зрителей. Запрос на билеты для болельщиков был особенно большим из Швеции, по понятным причинам географической близости и удобства посещения соседней страны. Определённые квоты в продаже билетов на матчи обещано было создать для канадцев. Большое внимание в Канаде уделяли вопросу организации радиорепортажей из Осло. Первую заявку на право трансляций матчей «Уитби» сделала компания Lakeland Broadcasting, выкупив один из восьми (8) каналов радиопередач. Наконец, уже в середине декабря было решено, что команды США, Канады и Норвегии проведут в Осло тренировочные матчи между собой с 18 по 21 февраля.

Бразды правления (1957-1960)
Формируя сборную СССР к чемпионату мира, А.Тарасов вынужден был сохранить б'ольшую часть (11 человек) состава команды-неудачницы образца 1957 года. Подлинных же дебютантов первенства мира оказалось всего трое – далеко не молодые Елизаров (33), Копылов (28) и Быстров (29, которого сам тренер откровенно называл запасным статистом). Все «новички» участвовали в турне по Канаде. Тренер понимал и позднее откровенно признавал, что практически не имел большого (да просто никакого!) выбора игроков для усиления команды - представителей нового поколения ещё было маловато. Именно таких, кто хотя бы не уступал ветеранам в мастерстве. Между тем, молодые, фактурные нападающие С.Петухов и Н.Снетков (активные участники турне по Канаде), почему-то не были привлечены в сборную. У тренеров Тарасова и Егорова были вполне объективные основания для комплектования сборного коллектива преимущественно игроками своих команд – ЦСКА и «Крыльев Советов». Оба клуба в течение последних четырех сезонов, включая текущий, занимали первые два места в чемпионатах СССР, а лучшими бомбардирами становились нападающие «Крыльев Советов». Кто, как не игроки сильнейших команд страны, должны были играть на чемпионате мира? Из сказанного можно сделать вывод, что к очередному мировому турниру наша команда оставалась вот уже третий сезон фактически неизменной, а, следовательно, не стала сильнее.
CCCP - Канада, Осло
Команда «Уитби Данлопс» последовала рекомендациям Сэма Поллока, и провела в Европе (Англия, ФРГ, Швеция, Норвегия) 14 выставочных матчей на европейских площадках. Судя по числу забитых голов в товарищеских и первых играх чемпионата мира, победы с двухзначным счётом были визитной карточкой канадского клуба. Такая результативность давала «Уитби» всё большую и большую уверенность в собственных силах, а у соперников вызывала состояние неотвратимой безысходности.
Перед решающим матчем за звание чемпионов мира команды СССР и Канады находились в далеко неодинаковом психологическом состоянии. Канадцы, хотя и сознавали обязательность и сложность возврата стране звания сильнейших в мире, были уверены в своих силах. Советской команде, напротив, такая же задача представлялась весьма затруднительной по всё тем же объективным причинам – укоренившаяся заскорузлость «стабильности» состава резко ограничивала возможности усиления игры. А.Тарасов, впервые в своей карьере испытывавший столь высокую ответственность, пребывал в противоречивых чувствах. При имеющемся наборе игроков-исполнителей, вопрос о выборе тактики игры против канадцев диктовал необходимость действовать преимущественно «от обороны». Так было и в 1954, и в 1956 победных годах. Но подобная манера игры сводила к минимуму наше потенциальное превосходство в быстрой и многообразной игре в пас. Поэтому Тарасов, полагаясь, по крайней мере, на равный с канадцами запас игровой выносливости наших хоккеистов, решил всё же играть в открытый хоккей. Т.е. способом, каким мы с канадцами раньше на ЧМ не играли. Соперник принял вызов, и игра все 60 минут проходила на встречных потоках. Советская команда открыла счет, и это был первый матч канадцев, когда им пришлось отыгрываться. Борьба была равной, «пока, - как выразился в своём отчёте Тарасов, - наши защитники были свежи, и нам удавалось успешно контратаковать». Подробности течения игры и изменения счёта описаны многократно, но из статистики видно, что сборная СССР к концу матча, всё же, сдала. По числу точных бросков по воротам команда Канады превзошла нас вдвое: 35 : 18. Риск тренера не оправдался.
Менеджер «WD» Рен Блэр (Wren Blair) очень высоко оценил игру сборной СССР, сказав, что до последних минут исход поединка был неясен. «Русские явно готовились и берегли себя именно к встрече с нами».
С.Вайханский в своей знаменитой монографии о сборной СССР по хоккею описывает перипетии матча СССР – Канада в Осло, ссылаясь на воспоминания Николая Пучкова. Наш вратарь упрекает Тарасова в ошибочном и фатальном игнорировании желания опытных игроков (Сологубов и Трегубов) выйти на поле для надёжной обороны в меньшинстве при счёте 1: 0 в нашу пользу. Якобы отказ тренера повлёк мгновенное взятие канадцами наших ворот и бесповоротную утрату превосходства советской команды. Снова приходится возвращаться к проблеме злоупотребления сослагательным наклонением в описании исторических событий. Но в данном конкретном эпизоде всё намного проще. Достаточно внимательно просмотреть в кинозаписи этот эпизод взятия наших ворот (доступный, кстати, с двух разных ракурсов). Н.Пучков, обязанный, как любой вратарь в условиях численного меньшинства, быть столпом обороны, покидает ворота, в прыжке (!) бросаясь за уходящей от него шайбой. Распластанный на льду голкипер, да ещё упустивший шайбу, лёгкая добыча для форварда, этой шайбой овладевшего. Бросок Эттерсли, гол! 1:1.
Момент на 7'10"
«Так вот где таилась погибель моя!». Большим мастерам, людям публичным, свойственно описывать прошлое, особенно отдалённое, в желанных и выгодных для себя красках. Этим грешат многие, как в силу характерологических, так и возрастных причин. И Тарасов, и Бобров, и Пучков неоднократно (мы позднее этого коснёмся) «приукрашивали» и искажали картинки прошлого. Простим им это, их величие тому залог!
В уже упомянутом отчёте Федерации хоккея об итогах выступления советских хоккеистов на 25-м чемпионате мира Анатолий Тарасов сообщил, что «… команда СССР была укомплектована лучшим, но далеко не полноценным составом. У нас пока очень мало одаренных молодых хоккеистов, способных войти в основной состав команды». Описывая недостатки и ошибочность действий отдельных игроков и даже звеньев, тренер, вместе с тем отстаивал правильность избранного курса на использование слабостей и органических недостатков канадского стиля. Игра с «Уитби» подтвердила, что «лишая канадцев привычной игры» (учитывая издержки тактики силового давления, минимизируя добивания ими шайбы и пресекая контратаки, избегая силовой борьбы, особенно вдоль бортов), можно, «используя наши сильные качества, добиваться победных результатов» при атакующей манере игры.
Из трёх лет верховенства в сборной страны сезон 1957-58 гг. и чемпионат мира в Осло были для Тарасова самыми поучительными. Во-первых, потому что тренер подтвердил (для самого себя!) на практике верность своей концепции направления развития хоккея в стране (другое дело, что это ещё предстояло доказывать коллегам своими достижениями в течение ряда лет!). Примат коллективного построения игры (принцип «пять в атаке – пять в обороне», так критикуемый Пучковым спустя 40 лет) на основе высокого индивидуального мастерства атлетически совершенных игроков лёг в основу дальнейшего развития хоккейной теории и практики. Учебно-тренировочный процесс у хоккеистов ЦСКА стал носить планомерный характер, как в индивидуальной, так и в командной подготовке.
Анатолий Тарасов вступил осенью 1957 г. в качественно новую фазу своего развития – став главным тренером сборной команды Советского Союза, он возложил на себя ответственность за хоккейные достижения всей страны. Теперь, помимо моральной, и формальную. На этом пути ему были нужны столь же убежденные и одержимые единомышленники. Титулованные ветераны, чемпионы всех возможных мастей не могли быть заинтересованными соратниками: они завершали свою славную карьеру. Поэтому требовательность (а теперь она удвоилась) руководителя вызывала у людей, желающих спокойно доиграть отведенный им срок, неприятие и немое (поначалу) сопротивление. А заменить авторитетных мастеров пока было не кем. Так в трениях и конфликтах с игроками, в постоянных компромиссах с собой и помощником-коллегой В.Егоровым прошли следующие два сезона.
Планируя этот исторический экскурс, мы считали важным его разделом упоминание первого визита в нашу страну хоккейной команды Канады («Kelowna Packers»). Несмотря на более чем 60-летний промежуток времени с того важного события, его детали очень живо всплывают в памяти. Эмоционально и визуально это стало важным и незабываемым явлением в хоккейной жизни нашей страны. Но, главным образом, для массовой среды хоккейных болельщиков, обывателей. Специалисты хоккея (тренеры, игроки сборной команды, отдельные администраторы спорткомитета, посетившие ранее Канаду) уже имели определённое представление о том, что такое канадский хоккей. А многим отечественным хоккейным экспертам (бывшие игроки сборной СССР, спортивные журналисты) показалось, что канадский клуб (2-4-ый по силе среди любителей Канады) своей игрой доподлинно олицетворяет весь канадский хоккей и уровень его развития. Этому, безусловно, способствовал отрицательный для нас суммарный итог 5-ти встреч с «Келовна Пэкерс» («КП») (+1/=2/-2). Старшего тренера (сборной Москвы) А.Тарасова критиковали за неправильную тактику игры, ошибочный состав игроков. Разгрому подвергся в печати и ряд хоккеистов нашей команды. Канадские газеты, ссылаясь на советскую спортивную прессу, подвели итог этого турне: «В России говорят своим тренерам: учитесь у Канады». Почему-то незамеченными остались единственная победа над «КП» команды ЦСКА (ст. тренер А.Тарасов) и его аналитическая заметка после той игры. «Надо прямо сказать: если мы в следующих играх не усилим игру с точки зрения тактики и морально-волевой подготовки, мы можем и проиграть». «Усилить» игру в решающей встрече у самого тренера Тарасова не получилось: его сборная Москвы проиграла решающий матч канадцам 1 : 5. Один из критиков (Ю.Ваньят) усмотрел в поражении угрозу катастрофы для всего советского хоккея, другой (В.Бобров), пожурив как игроков, так и тренера, милостиво обнадёжил тем, что ошибки исправимы.
Тарасову не удалось, на наш взгляд, в этих немногочисленных матчах с серьёзным, но не столь грозным соперником проверить молодых бойцов – для сборной из наиболее перспективных молодых кандидатов он «опробовал» только Э.Иванова, Е.Грошева, В.Якушева, Н.Снеткова, И.Деконского, и зрелых «универсалов» Ю.Баулина и В.Пряжникова. Позднее все они (кроме Иванова) поехали в Прагу на чемпионат мира.
Несмотря на очередное обновление состава на 1/3, чемпионат мира 1959 г. для нашей команды был полной копией предыдущего: по соотношению сил с традиционными соперниками, по пресловутой «стабильности» этого состава, по неразрешимости канадской проблемы. Рассказывая о нашем сопернике из Канады, хочется сослаться на недавнюю книгу Грега Франке (Greg Franke) «Эпическое противостояние» (Канада против России: величайшая спортивная драма всех времён) 2018 г. Описывая чемпионат мира 1959 года, автор подчеркивает, что клуб «Bellville MacFarlands» (Macs) (обладатель Кубка Аллана 1958 г.) почти целиком состоял и недавних или свежезадрафтованных профессионалов (13 игроков из 16). «Macs» принадлежал крупнейшему строительному (аэропорты, дороги/хайвеи, цемент) магнату Канады Харви Макфарланду (Harvey J. McFarland). Так что, с точки зрения финансовой основы эта команда могла расцениваться как полупрофессиональная. Выиграв 1 мая 1958 года седьмой матч финала Кубка Аллана у «Келовна Пэкерс», «Macs» попали на чемпионат мира. Городок Беллвилл (здесь начинал свою детскую хоккейную карьеру Бобби Халл) на берегу озера Онтарио с населением в 30.000 человек очень дорожил таким достижением. Победа же в чемпионате мира 1959 г. вот уже 60 лет является исторической гордостью нескольких поколений горожан, число которых утроилось за эти десятилетия.
Играющий тренер канадской команды Айк Хилдебранд (Ike Hildebrand) после победы 3:1 весьма уважительно отозвался о сборной СССР. «Торонто Стар» цитирует такое его высказывание: «Если бы мы провели с ними серию из 10 игр, они победили бы в 40% матчей». Пресса подчеркивала обескураженность Тарасова очередной неудачей в игре с Канадой. «Он только открывает для себя понимание того, что значит быть «не первым», что канадским тренерам давным-давно знакомо», отмечал известный уже нам колумнист Милт Даннел (Milt Dunnell).
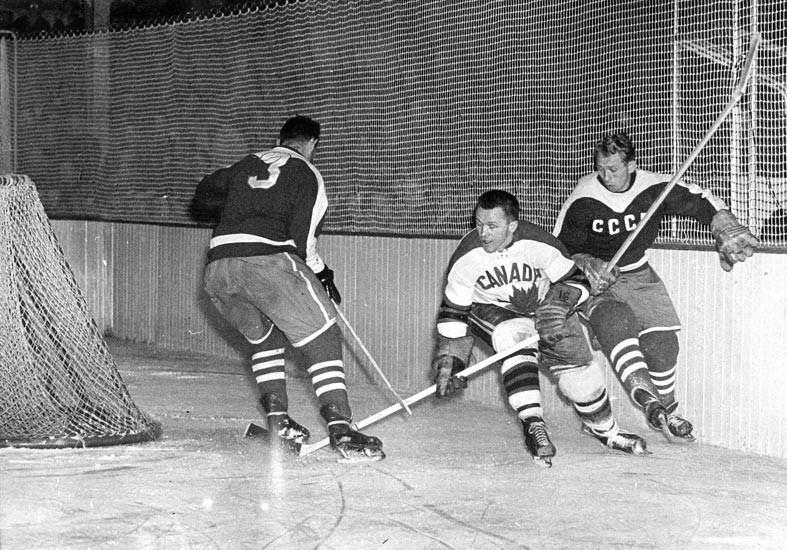

Чемпионат мира по хоккею 1959 г. в Праге стал памятным ещё и потому, что на него в качестве официального гостя правительством Чехословакии был приглашён Морис Ришар – лучший бомбардир и суперзвезда НХЛ из клуба «Монреаль Канадиенс». Это был первый визит на турнир МФХЛ гостя из Национальной хоккейной лиги. М.Ришар, 38-ми лет, из-за травмы был свободен от участия в регулярных матчах чемпионата НХЛ. В Праге он посетил ряд игр, вежливо и позитивно отозвался о ведущих европейских командах. А.В.Тарасов сохранил подробные воспоминания о канадском суперфорварде и его отношении к развивающемуся советскому хоккею. Эти реминисценции красной нитью проходят через многие публикации и выступления Тарасова на протяжении двух десятков лет. В них М.Ришар предстаёт главным оппонентом в «споре» о том, какому хоккею, канадскому или советскому, принадлежит будущее. Богатое воображение Анатолия Владимировича, к тому же подкреплённое первыми знаковыми победами над Канадой, особенно в 1964 г., позволило ему в книге «Совершеннолетие» (1966 г.) скомпилировать историю о встрече с Ришаром в Праге. А позднее - уже в Канаде.
«Впервые очно, лицом к лицу, мы встретились с Морисом Ришаром в Праге, на чемпионате мира, куда он был приглашен как почётный гость.
Ришар пришел к нам и сказал, что хочет принести извинения за свою излишне поспешную оценку (в 1957 г. – прим. автора) нашего хоккея. Он объяснил, что следил за игрой по телевизору, так как заранее был предубежден против русских хоккеистов и потому не хотел терять времени и ехать на стадион. Ничего хорошего от матча он не ждал. А телевизор, сокрушенно качал головой Ришар, в тот день работал как-то неважно, с перебоями, и от того у него создалось искаженное представление о советском хоккее. Потом, подумав, Ришар добавил, что сейчас наша сборная все еще уступает коллективам высшей профессиональной лиги.
Однако уже при следующей встрече Морис Ришар рекомендовал нам сыграть с профессионалами. Трудно сказать, то ли он хотел проверить свое впечатление, то ли стремился прощупать нашу команду, понять, в чем её сила.
А когда 12 декабря 1964 года советские хоккеисты вновь приехали в Канаду и проводили первую свою тренировку на стадионе «Монреаль Канадиенс», то посмотреть на наших ребят в полном составе явились все хоккеисты этого прославленного клуба, старейшего и популярнейшего в профессиональном хоккее. Был на тренировке и Морис Ришар». (А.Тарасов. «Совершеннолетие», 1966 г.)
В этих четырёх абзацах выдержки из книги А.Тарасова - сплошные преувеличения и даже откровенные выдумки.
Трудно представить себе, что сильнейший и самый состоятельный хоккеист НХЛ, находясь в Праге в роли официального почётного гостя ЧМ 1959 г., посетил расположение (отель?) сборной СССР, чтобы принести свои извинения. И поговорить с советским тренером о судьбах мирового хоккея. Он скорее встретился бы со своими коллегами-соотечественниками, чтобы пожелать им победы на турнире. Но и этого не случилось. Иначе о таком факте обязательно сообщили бы все канадские газеты (они довольно подробно описывали программу пребывания Ришара в Праге).
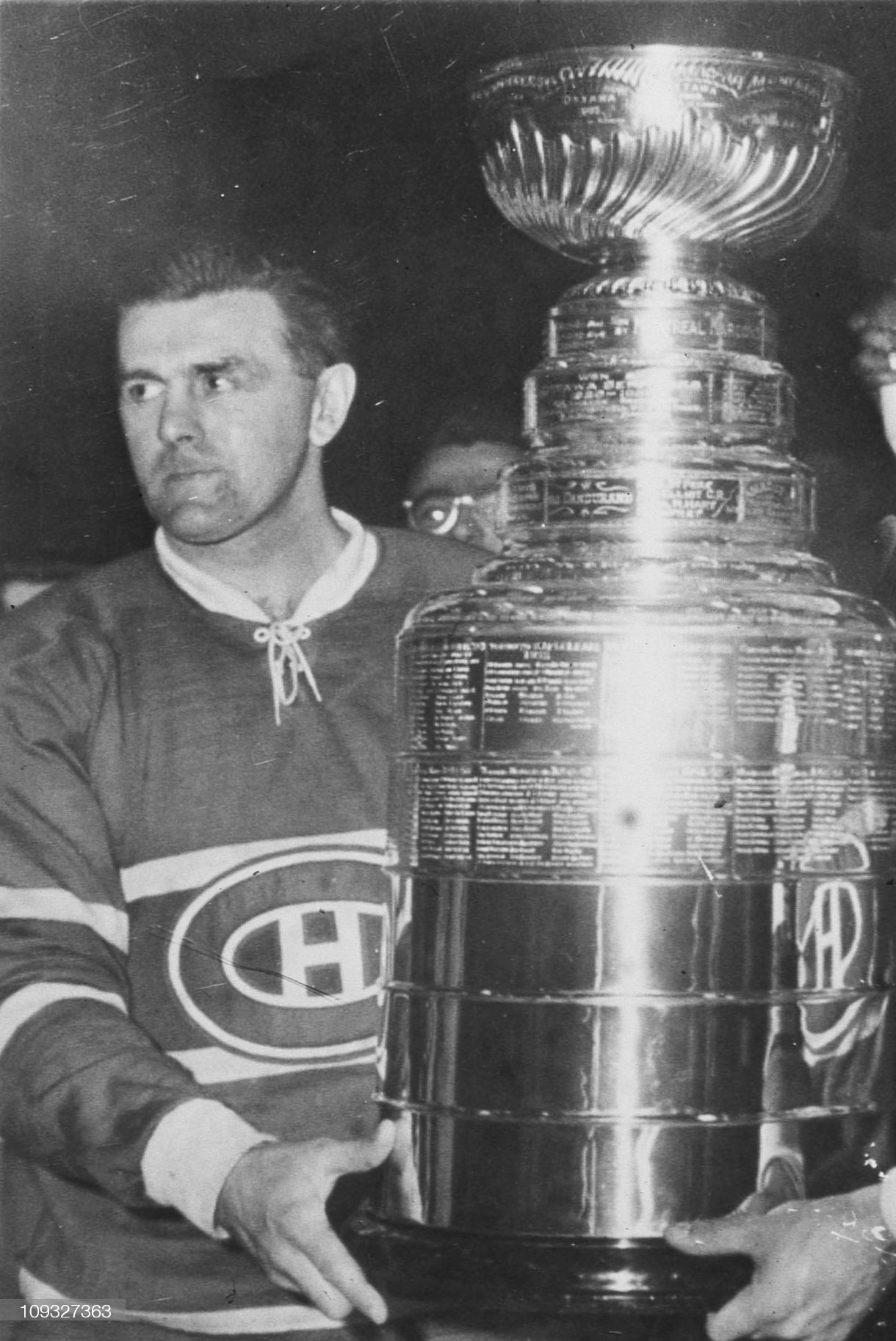

Что касается 1964 г., то сборная СССР, после победной игры 11 декабря в монреальском «Форуме», на следующий день (т.е. 12 декабря) отправилась в Торонто, и там провела свою тренировку в «Мэйпл Лиф Гарденс» перед матчем (13 декабря) со сборной Канады. А 12 декабря всё в том же «Форуме» гостем «Монреаль Канадиенс» был «Нью-Йорк Рейнджерс», и эти команды провели очередной календарный матч чемпионата НХЛ. По давним правилам стадиона «Форум» в день игры «Монреаля» лёд арены никем не может быть занят. Ни о какой тренировке советской команды, ни о каком коллективном её посещении «Монреалем» в собственный игровой день (да и вообще когда-либо) не могло быть и речи.
Когда-то давно мы писали («ТРЕНЕР Тарасов», М. «Рутена», 2001;), что в канадском турне 1957 г. «… Тарасов увидел матчи команд НХЛ, так называемой «большой шестерки», и потерял покой. С одной стороны, он был восхищен высочайшим классом игры мастеров Национальной хоккейной лиги. С другой стороны, он понял, что играть в эту заокеанскую игру можно лучше и красивее, чем это делают сливки канадского хоккея. И это стало главной задачей его профессиональной карьеры – сделать наш хоккей лучше!»
Решение такой сверхзадачи требовало объединенных усилий всего советского хоккейного сообщества – администрации, тренеров, игроков. И, конечно, власть предержащих институтов. Возникнуть такое единение могло только в результате большой просветительской, скорее даже пропагандистской работы. И Тарасов стал самым активным популяризатором важнейшей (на его взгляд) задачи – достижения превосходства над канадским хоккеем. Его публикации в периодической спортивной (а позднее и неспортивной) печати, появление в кинохронике и участие в зарождающихся телеинтервью, частые публичные выступления обязательно содержали сведения о хоккее Канады и важности побед над ним. С позицией Тарасова трудно было не соглашаться, никто из его коллег не имел с ним в этом принципиальных расхождений. А.И.Чернышев и В.К.Егоров разделяли взгляды тренера на приоритетную роль хоккея Канады, как стимулятора нашего прогресса. Складывалось впечатление (прежде всего, у самого Тарасова), что его откровения — это «глас вопиющего в пустыне», «улица с односторонним движением». Требовался постоянный оппонент, апелляция к которому создавала бы картину дискуссии, столкновения мнений. И Тарасов выбрал для себя Ришара. Нередко публикуя аналитические статьи о игре канадских клубов в Москве под псевдонимом Ю.Копылов, мастер спорта, Анатолий Владимирович не раз ссылался на «беседы с Морисом Ришаром».
Позволяя себе такие фантазии и рассказывая публике подобные небылицы, хотя и приближенные к истине, А.В.Тарасов рисовал в своей версии истории независимого развития отечественного хоккея картину идейного столкновения противоположных взглядов на сущность и будущее этой игры. А в качестве воображаемого оппонента выбирал себе авторитет самого внушительного калибра.
На пороге победного марша

Приближался второй для нашего юного хоккея зимний Олимпийский сезон. Активно готовились к нему конькобежцы, лыжники, биатлонисты, двоеборцы, фигуристы. Сборная СССР по хоккею также работала по заранее утвержденному плану. На хоккейной олимпийской «бирже» выше всех котировалась Канада. Хотя её снова, как и в Кортина, представлял уже хорошо нам и всем знакомый «Китченер-Ватерлоо Датчмен». Представлял вынужденно, т.к. истинный правообладатель участия в Олимпиаде «Уитби Данлопс» ещё летом 1959 г. заявил о своей финансовой несостоятельности. Действительно, поездка на Олимпиаду всегда требовала очень значительных средств, которыми любая команда любительского дивизиона в одиночку располагать не могла. Но эту в чём-то романтическую команду очень любили во всём Онтарио, даже несмотря на соседство (75 км расстояния) главного объекта обожания, гиганта НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» (ТМЛ). Необходимые средства в размере $17.000 (наём врачей и массажистов, транспортные, страховые и багажные расходы) были собраны благодаря покупке населением автомобильных лотерейных билетов ($12.000), а также личных дотаций Конна Смайта (ТМЛ) и владельцев «Монреаль Канадиенс» (по $ 2.000).

Руководство команды (генеральный менеджер Эрни Гоман и тренер Бобби Бауэр) не скрывало своих намерений выиграть эту Олимпиаду, а состав игроков был поистине звёздный: влились по 1-2 сильнейших игрока из «Chatham», «Windsor» и «Whitby», а также юное дарование «Монреаля» Бобби Руссо и Дейв Кеон (ТМЛ), вынужденно отказавшийся от участия в Олимпиаде в самый последний момент. На самом пороге соревнований возникли у канадцев и проблемы (травмы, отказ в олимпийской легализации ряду игроков), но они не теряли уверенности в победе над сборной СССР, главным, по их мнению, конкурентом в борьбе за золото.
Всё роковым образом внезапно (для всех!) спутала отважная команда хозяев турнира, сборная Соединенных Штатов Америки.
Для сборной СССР Зимние Олимпийские игры 1960 г. в Скво-Вэлли стали печальной демонстрацией откровенного «застоя в кадровой политике».
Перед олимпиадой были сформированы две команды. Первую готовили, как и год назад Тарасов и Егоров, команду-дублёра поручили Чернышеву. Как никогда ранее, в первой команде численно преобладали игроки «КС», даже над представителями ЦСКА (будем называть этот клуб сегодняшним именем). Очень скромно эта масса была «разбавлена» Якушевым и Снетковым из «Локомотива» и динамовцем Петуховым.
Было решено окончательную подготовку, вплотную к Олимпиаде, проводить на североамериканском континенте. Главная команда выбрала США, ссылаясь на возможность находиться в штате Колорадо, в высокогорных условиях, сходных с олимпийским Скво-Вэлли (штат Калифорния, горы Сьерра-Невада/высота около 2000 м, на границе с знаменитым озером Тахо). Вторая сборная СССР молодым составом выступала в Канаде, где соперниками снова были самые сильные и «нелюбимые» нами клубы, в т.ч. «КВД», также готовившийся к олимпиаде. Несмотря на неоднократные и крупные поражения от канадцев, молодые Коноваленко, Иванов, Давыдов, Б.Майоров, Старшинов, Цыплаков, Юрзинов, Чистов в этом турне приобрели бесценный опыт и впервые ощутили свою полную готовности к большому международному хоккею.
Откровенно слабый состав команды Тарасова и Егорова (тренеры поровну делят ответственность, делегировав практически только игроков своих клубов) на Олимпиаде оглушительно провалился – 2 поражения и 1 ничья в пяти решающих матчах (особо болезненно воспринималось поражение от американской команды - 2:3). Тренеры, сделав ставку на многолетний привычный костяк «подчинённых и послушных» игроков, просчитались. Не разглядели в уже готовой к борьбе молодой плеяде хоккеистов перспективу усиления командной игры.
Надо сказать, что и наш главный соперник был обескуражен поражением от американцев (Канада – США, 1:2) и крушением надежд на возврат утраченного в 1956 г. олимпийского чемпионского звания. Сборная СССР в последней игре турнира была разбита и посрамлена канадцами (8:5, 0:4 после 1-го периода), но это было слабым для них утешением. Беда родоначальников хоккея усугублялась тем, что две Олимпиады подряд поражение терпел один и тот же, хоть и лучший любительский клуб. Несмотря на тёплый и сочувственный приём любимых хоккеистов после возвращения в Онтарио, в Канаде всё чаще стали звучать разумные и, вместе с тем, возмущенные требования покончить с косной практикой клубного представительства на чемпионатах мира и, тем более, на Олимпиадах. Политики не остались в стороне, называя итоги олимпийского турнира полным провалом. Так, глава муниципалитета г. Кингстона (провинция Онтарио) направил открытое письмо с критикой «Китченера» мэру одноименного города: «Я призываю объявить день национального траура и приспустить государственные флаги. Поздравляю ни с чем!» (Sports History Review, 2000, 31). В прессе почти повторились публикации, анализировавшие поражение 1956 г. (Toronto Globe and Mail, February 1, 1956). Но в этот раз сетовать на неспособность истинных любителей конкурировать с «русскими профессионалами» не было резона. Поражение канадцы потерпели от таких же, как и они американских любителей, всегда «слабо подражающего южного соседа», от команды, объединившейся всего за несколько недель до турнира. Звучали лишь требования переходить к созданию сборного коллектива лучших мастеров-любителей. Верилось, что такой вариант представительства на международной арене позволит Канаде оставаться, как и ранее, непобедимой.
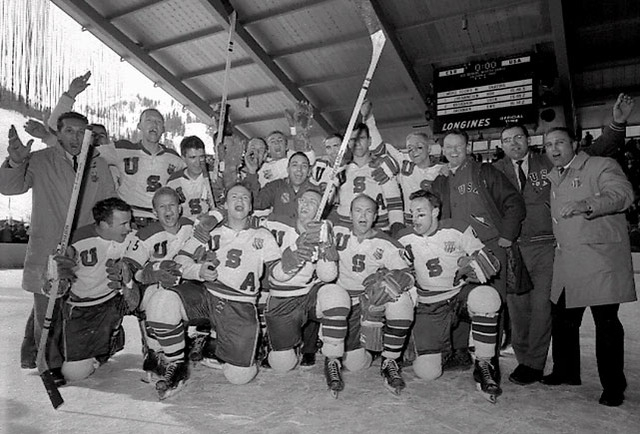
Снова вернёмся к проблемам нашего хоккея. Мы не ошиблись, утверждая, что эти три сезона работы в сборной для Тарасова были самыми поучительными в его эволюции. Сокрушительность закономерных поражений последних двух лет заставила Тренера увереннее двигаться по пути воспитания и формирования качественно нового хоккейного поколения.
Правда, утрата золотого олимпийского титула, ставшая финалом трёхлетних попыток восхождения на вершину пьедестала, могла означать только конец работы этого тренерского тандема в национальной команде. Однако каким-то чудом Тарасову удалось остаться у руля сборной в следующем сезоне. В ноябре 1960 года он заметно обновляет состав команды. В Москву для проведения серии матчей из Канады приезжает команда «Чатам Мэрунз», обладатель Кубка Аллана. В семи матчах с этим клубом штаб сборной страны сумел проверить многих молодых хоккеистов. Выбор, особенно среди нападающих, был уже велик. Хорошо зарекомендовавшие себя и сложившиеся тройки нападающих «Локомотива», «Спартака», «Химика», «Торпедо» (Г), «Динамо» показали в играх с канадцами уверенную и смелую игру. Под стать им были и молодые защитники Рагулин, Иванов, Давыдов, имевшие за плечами опыт выступления на полях Канады. Подробности и результаты визита «Чатам» в СССР описаны на Форуме хоккейных статистиков В.Малеванного. Лучший любительский клуб Канады сумел выиграть только одну встречу, проиграв 5. Один из тех семи (7) матчей в Москве сборная СССР выиграла со счётом 11:2 (кстати, после первоначального поражения 3:5). А.Чернышев, анализируя в «Советском Спорте» игры «Чатам Мэрунз», очень высоко оценил качество игры нашей сборной именно в этом матче. Он подчеркнул, что возросший класс игры советских хоккеистов стал особенно заметен в соревновании с представителем канадской школы. Новое поколение игроков 19-22-летнего возраста твёрдо заявило свои права на место в сборной страны.
Подготовка к чемпионату мира в Швейцарии набирала обороты. Верный своей цели достижения атлетического совершенства советских хоккеистов, которая находит отклик и понимание новобранцев сборной, Тарасов повышает тренировочные нагрузки, как на сборах национальной команды, так и внутри хоккейного клуба ЦСКА.
Именно в этот период накапливается критическая масса недовольства ветеранов (во главе с Сологубовым, Трегубовым и другими пассивно примкнувшими армейцами), которые бросают ультиматум клубному руководству, отказываясь работать под началом Анатолия Тарасова в составе ЦСКА. Уверенный в собственной правоте самолюбивый тренер подаёт в своём клубе заявление об отставке, и оно удовлетворяется. В этой связи Федерация хоккея СССР принимает решение освободить армейского тренера от руководства сборной страны, ссылаясь на значительное присутствие там игроков ЦСКА. Тарасов покидает национальную команду в январе 1961 г., а подготовку коллектива к чемпионату мира в Швейцарии поручают А.Чернышеву, А.Виноградову и А.Кострюкову.
И тут в Москву прибывает финалист Кубка Аллана 1960 г., команда из провинции Британская Колумбия «Трейл Смоук Итерс». Ранее КЛХА (САНА), после отказа «Чатам» участвовать в Чемпионате мира, доверила эту миссию клубу с Западного побережья Канады (добавим мимоходом, что эта команда уже была чемпионом мира в 1939 г). Маленький городок (население 7600 человек!) вместе с окружающими его населенными пунктами героическими усилиями собрал необходимые для поездки 23 000 долларов, во многом благодаря своему медно-алюминиевому горно-обогатительному комбинату, крупнейшему в Канаде. По дороге на чемпионат мира «Трейл Смоук Итерс» совершает традиционное турне по странам Европы. Хотя в Москве канадцы сыграли всего три матча, нашим тренерам удалось попробовать против них в каждом матче б'ольшую часть пополнения сборной (Коноваленко, Чинов, Рагулин, братья Майоровы, Старшинов, Юрзинов, Снетков, Цыплаков), исключая всех претендентов из ЦСКА. Думается, тренерами это было сделано умышленно, дабы показать некоторым смутьянам недопустимость раскола внутри коллектива, как это произошло в ЦСКА. Но мера эта была временной, и оказалась половинчатой.
Ошибку, совершенную А.Тарасовым при комплектовании команды в Скво-Вэлли, А.Чернышев (не рискнувший включить в состав Иванова и Давыдова) слепо повторил в Женеве в марте 1961 г. Деградирующие в архаичном понимании хоккея и убеждённые в своей незаменимости Сологубов и Трегубов полностью провалили турнир и были одной из главных причин второго подряд фиаско сборной СССР в чемпионате мира (достаточно просмотреть голы, пропущенные нашей командой в игре с Канадой или сборной ЧССР). Единственным утешением этого турнира
можно было считать твёрдый переход на «клубный принцип» привлечения в сборные команды страны звеньев нападающих. Непохожие по стилю игры и постоянно прогрессирующие тройки нападающих ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Торпедо» (Г), неоднократно проверенные в матчах с канадскими клубами (как за океаном, так и у нас), позволяли рассчитывать на разнообразную игру, а также полезную и столь необходимую конкуренцию в главной команде страны.
После чемпионата мира у руля армейского клуба встаёт почитаемый всеми з.м.с. Александр Виноградов. Хоккейный сезон у нас в стране завершается победным дублем ЦСКА – и в чемпионате, и в Кубке СССР.
В следующем сезоне команду ЦСКА принимает Е.Бабич, под руководством которого дела в ней постепенно разлаживаются. Чего стоит небывалый провал в игре с московским «Динамо» - 5:14 (ноябрь 1961). В команде царит полный упадок дисциплины, возникают скандал за скандалом («Советский Сорт», 16.11.1961)
Сборная СССР, готовясь к заокеанскому (США) чемпионату мира всё с тем же старшим тренером А.Чернышевым, уже не прибегает к услугам смутьянов (Сологубов, Трегубов) и проштрафившихся вне хоккея (Александров, Локтев) игроков из армейского клуба.
А.Тарасов же всё это время (безвременье) проводит на свадебно-генеральской должности Главного тренера Вооруженных Сил по хоккею. Эти почти 12 месяцев «изгнания» (или самоустранения?) во многом способствовали осмыслению Тарасовым того пятилетнего (с сентября 1957) опыта, который отечественный хоккей приобрёл, встав на путь регулярного общения с канадским. Тренер окончательно убедился в необходимости наращивать превосходство над канадцами в коллективных действиях на поле. И важнейшим средством (инструментом) реализации этого должен был стать индивидуальный атлетизм каждого игрока. Именно в этот период тренер ЦСКА окончательно провозгласил примат тренировочного процесса над игровой практикой. Систематические, порой многочасовые, особенно в межсезонье, тренировки спортсменов (как коллективные, так и индивидуальные) должны были сформировать у них большой запас сил (выносливости, скорости, физической мощи). Настолько значительный, чтобы каждый хоккеист мог в ходе большинства матчей уверенно реализовывать не более 70-80% этого ресурса. Тарасов категорично утверждал, что «интенсивный тренировочный процесс приводит игрока к таким кондициям, при которых любая, самая ответственная и трудная игра будет восприниматься им как лёгкая, радостная прогулка». «Спорт высших достижений, - говорил Тарасов (личное сообщение, 1962), - относится к категории тяжёлого физического труда, и 70% времени в нём занимает тренировка. И только 25-30% - это соревновательная игровая практика. Но именно игра, особенно победная, доставляет спортсмену удовольствие, и приносит радость, славу и достойный заработок! Для того, чтобы тяжесть изнурительность тренировочного процесса не порождали у спортсменов негативно-депрессивную реакцию в течение большей части времени его труда, тренер должен, обязан придумывать всё новые и новые, разнообразные и увлекательные тренировочные упражнения. Они должны формировать и закреплять быстроту и ловкость катания, работы клюшкой (ведение, передачи и броски шайбы), устойчивость на льду и волевую «живучесть» при жестком силовом сопротивлении противника. Условия настоящей ледовой тренировки должны по насыщенности и сложности действий игроков кратно превосходить таковые в матче»
В январе 1962 гг. А.Тарасов возвращается на пост старшего тренера хоккейной команды ЦСКА. Быстро устранить царившую около года сумятицу и противоречия внутри коллектива тренеру не удаётся. Заключительная, решающая стадия борьбы за чемпионское звание проходит в трудном и почти равном противоборстве «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Молодой и талантливый коллектив московского «Спартака» с бескомпромиссной отвагой впервые в своей истории выигрывает звание чемпиона СССР. Тренер команды Александр Новокрещенов добивается успеха за счёт строгой тактической организации игры, сочетавшейся с высокой импровизацией в действиях лидеров команды братьев Б. и Е. Майоровых и В.Старшинова.
Завершая описание этого этапа развития нашего хоккея и роли А.Тарасова в нём, нельзя не рассказать и о выдающемся представителе этой игры, заслуженном мастере спорта, участнике Великой Отечественной войны Николае Сологубове. Нет необходимости излагать славную историю жизни и хоккейной биографии этого матёрого (лучшего определения не подобрать) человека – сколько невообразимых, как подлинных, так и сомнительных историй можно встретить о нём сегодня в информационном спортивном пространстве: пересказываемые на все лады воспоминания представителей уже почти целиком ушедшего из жизни поколения его соратников (Н.Карпов, В.Шувалов), журналистов (В.Кукушкин, В.Пахомов), подлинных историков хоккея, даже иностранных коллег.
Сологубов пришёл в команду ЦДКА в сезоне 1949-50 гг., когда её, уже двукратного победителя чемпионата СССР, покинули Бобров и Бабич, перешедшие в ВВС. Новичок в чемпионском составе не только не потерялся, но быстро освоился в роли одного из лидеров команды. Этому во многом способствовал его уже «зрелый» по спортивным меркам возраст (25 лет), и несомненный талант. Он успешно играл и нападающим, и защитником. Однако вскоре тренер Тарасов понял, что функции форварда Сологубов безупречно выполнять не может из-за недостаточно высокой стартовой скорости катания. А вот роль защитника с его прекрасной ориентацией, чувством пространства, невероятной устойчивостью и физической силой (упавшим на лёд его видели крайне редко) у Сологубова получалась просто образцово. Совершенно по-новому выполнял он оборонительные функции, неожиданно и умело сочетая силовой контакт и работу клюшки при отборе шайбы у соперника. В единоборстве один на один он был невероятно «живуч», и такие поединки всегда выигрывал. Так в нашем хоккее ещё никто не играл. Недаром в Канаде (1957 г.) нашего игрока немедленно признали мастером калибра НХЛ.
В принципиальных играх ЦДКА с обновленной после авиационной трагедии командой ВВС Сологубову отводилась особая, персональная роль «смирительной рубашки» для неудержимого Боброва. Лидер нашего хоккея 50-х ощущал себя непривычно скованно в тисках постоянной опеки энергичного защитника. Показательно, что в тех немногих (из-за травм обоих игроков в сезонах 1950-53 гг.) матчах (4), где спортсмены противостояли друг другу, Боброву удалось забить соперникам «только» 3 гола. В то же время его неотступная тень защитник Сологубов умудрился в ответ забросить также 3 шайбы!
Николай Михайлович (Тарасов всегда именно так подчёркнуто-уважительно обращался к Сологубову) стал в сезоне 1956-1957 гг. капитаном ЦДСА (клуб в 1953-м объединили с упраздненным ВВС), после чего А.Чернышев на общем собрании команды провозгласил его и капитаном сборной СССР.
Международный авторитет Сологубова рос из года в год, особенно после первоначальных поездок нашей команды за океан (в Канаду в 1957 г. и США в 1959-60 гг.) и в связи с присвоением титула сильнейшего защитника на ряде мировых первенств. Фотографии капитана сборной СССР часто появлялись в спортивной хронике североамериканских газет. Особенно колоритным было совместное фото хозяина клуба «Бостон Брюинз» Уолтера Брауна и Сологубова. Его медийная популярность достигла апогея после Олимпиады 1960 г., где он прославился своим неожиданным поступком в помощь команде США. Газеты сообщали, и это подтвердил тренер американцев Джэк Райли (Jack Riley), что Н.Сологубов во втором перерыве матча с командой ЧССР предложил американским игрокам прибегнуть к ингаляциям кислорода. Американцы последовали совету, после чего в последнем периоде забили 6 безответных шайб и триумфально завоевали мировое и олимпийское золото.

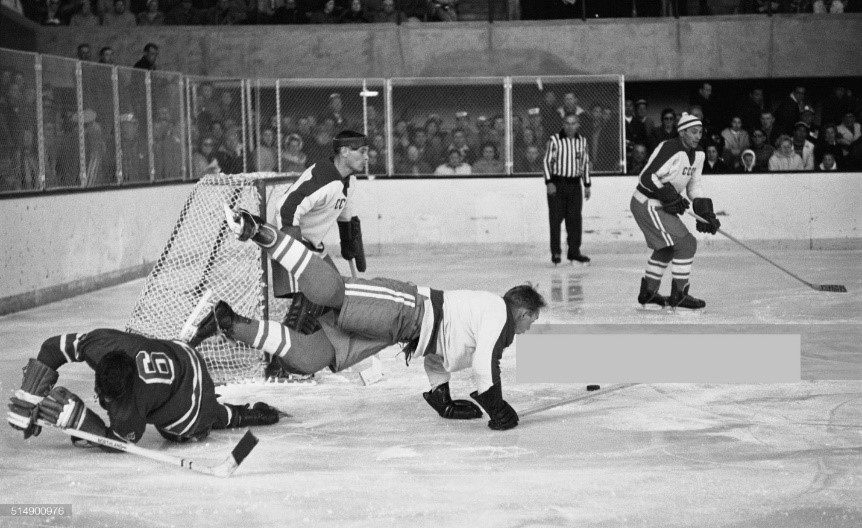
Под грузом вышеперечисленных заслуг и почестей Н.Сологубов утевердился в своём неоспоримом авторитете. А возраст (спортсмену было уже 36 лет!) начинал тем временем безжалостно сказываться на функциональных (быстрота реакции, выносливость, скорость катания) возможностях хоккеиста. Только тренировочный режим (а он в клубе постоянно утяжелялся) и самодисциплина могли помочь игроку сохранить нужную спортивную форму. Такой позиции тренера Тарасова игрок и капитан команды Сологубов не разделял (он уже не мог соблюдать режим высоких нагрузок). Поэтому (вместе со своим партнёром и другом И.Трегубовым) и встал на путь конфронтации с Тарасовым. Благо, полагал он, история нашего хоккея знала подобный случай, когда ультиматум Боброва был принят хоккейным начальством, и Тарасова отстранили от руководства сборной СССР.
Завершение этой истории (см. выше) всем хорошо известно. Но вот о её кульминации (В.Набоков - личное сообщение, 2021) мало кто знает. Уже после добровольной отставки из ЦСКА А.Тарасов навестил Н.Сологубова дома. Разговор двух маститых хоккейных профессионалов длился не один час. Главным в доводах и убеждениях Тарасова являлся призыв сохранить преданность и служение хоккею, не подменять их сиюминутной слабостью и мнимой борьбой с мифической жестокостью и диктатурой тренера. Обе стороны конфликта в итоге остались непреклонны и каждая при своём мнении. «Переговоры» не дали результата. А время неумолимо показало на чьей стороне была правда.
В качестве послесловия к этому очерку мы приводим одну любопытную фотографию. Она символизирует момент смены поколений, с которого начался победный марш советского хоккея.

1962 г. Дуумвират*
* - в Древнем Риме дуумвиратом называлась управленческая должность, которая занималась двумя людьми
Хоккейное межсезонье 1962 г. стало поворотным в истории развития этой игры в СССР. В советской спортивной администрации было принято мудрое историческое решение – сборную СССР по хоккею поручили и доверили двум лучшим тренерам страны – Аркадию Чернышеву и Анатолию Тарасову. И работа закипела в полную силу. Тренеры сразу договорились, что интересы руководимых ими клубов («Динамо» и ЦСКА) никогда не будут поставлены выше интересов главной команды страны, которые станут для них абсолютным приоритетом. Курс был взят на возвращение титула чемпионов мира.
Мы уже отмечали, что к началу 60-х выросло поколение интересных игроков новой формации. Все они в детстве и юности учились канадскому хоккею, и только ему. Поэтому у них изначально и накрепко формировались структурированные требованиями хоккея с шайбой навыки – как ментальные, так и двигательно-рефлекторные. Эти хоккеисты в отличие от наших славных первопроходцев по-другому катались (бегали) на коньках, их плечевой пояс и руки были намного сильнее, а устойчивость на льду значительно возросла. Игровая ориентация на поле, несмотря на меньшие размеры площадки, стала более быстрой и гибкой в отличие от таковой у хоккеистов, игравших, и играющих мячом. Работая с таким «материалом», тренеры могли ставить новые задачи – технические, тактические, стратегические – и успешно их решать.
Особенностью тренерской (педагогической) работы Аркадия Ивановича Чернышева была, выражаясь современным языком, взвешенная толерантность: желание и способность избегать обострения отношений с игроками, мудрая терпимость к крайностям в поступках подопечных. Это во многом определялось его личностными качествами, но в немалой степени ещё и нормами существования ведомств, к которым принадлежало общество «Динамо». А ими были (и остаются) Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности страны, т.е. военизированные организации, но закрытого (в те годы) типа. Поэтому большинство спортсменов имели воинские (в т.ч. и офицерские – почитайте мемуары С.Петухова) звания. Например, к завершению своей карьеры А.И.Чернышев носил звание полковника внутренних войск МВД СССР. Рекрутирование молодого хоккейного пополнения в «Динамо» осуществлялось на призывной основе, но, в отличие от ЦСКА, не так открыто. Вся страна знала о всеобщей воинской повинности, о весеннем и осеннем призывах в армию молодых мужчин в возрасте 18 лет и старше. И никто не удивлялся (кое-кто, правда, возмущался), когда на осенних сборах в ЦСКА появлялись 3-5 молодых хоккеистов, игравших ранее в «гражданских» командах. А вот о порядке пополнения рядового состава МВД и КГБ общедоступная информация отсутствовала. Поэтому только А.Тарасова нарекли (с 1962 г.) «разорителем колыбели отечественного хоккея» (определение, позаимствованное автором из канадской литературы). Хорошо всем знакомый и растянутый на 10-летие список - Фирсов, Рагулин, Дроздов, Иванов, Зайцев, Мишаков, Ан.Рагулин, Михайлов, Петров, Цыганков, Б.Александров – всегда вызывал и продолжает вызывать пересуды. А вот Данилов, Парамошкин, Шилов, Сакеев, Чичурин, Мотовилов, Самочернов, Белоножкин, Васильев, А.Мальцев, Пашков стали динамовцами органично, почти незаметно, без вопросов и нареканий с чьей-либо стороны.
Этим кратким экскурсом и примером мы хотим подчеркнуть, что, становясь соратниками по руководству сборной, тренеры, возглавляя при этом свои клубы с неограниченными мобилизационными возможностями, находились в равных условиях.
Анатолий Владимирович Тарасов характерологически был полным антиподом своего старшего коллеги. Его отношения с игроками внутри ЦСКА базировались на абсолютном тренерском диктате. В основе такого положения вещей лежал тезис о беззаветной преданности хоккею всех и каждого, кто носит форму Центрального спортивного клуба армии, в котором царит подлинная армейская дисциплина. И, хотя все хоккеисты имели различные воинские звания, дело было не только, и не столько в формальной армейской субординации. Тарасов считал (и, как показали десятилетия, справедливо), что статус руководителя, подкреплённый глубоким знанием и пониманием этой игры, творческим видением путей её развития, даёт ему право быть безраздельным диктатором в своей работе. Самой яркой иллюстрацией этому является рассказ Бориса Михайлова о его беседе с Тарасовым в момент приёма в ЦСКА («красный как помидор» - тот же документальный фильм «Хоккей Анатолия Тарасова»). Слушая его, хочется немедленно напомнить себе и каждому, какого большого исторического масштаба хоккеистом (да и тренером) стал Борис Петрович Михайлов. Вот так работала кузница кадров Анатолия Тарасова.
Повторимся, напомнив читателю, что же А.В.Тарасов считал основой основ индивидуального мастерства каждого хоккеиста. Высочайший атлетизм – быстроту любых действий, скоростную и силовую выносливость, ловкость двигательную и техническую, рационализм прилагаемых усилий. При постоянном самоанализе игроком своих действий. Формированию и закреплению этих качеств он уделял большую часть тренировочного времени. Происходило это как в момент индивидуального тренинга игрока, так и в ходе коллективных (звеньевых) занятий. Как во время занятий «на земле», так и в полной амуниции на льду. Такого насыщенного тренировочного режима не было ни в одной хоккейной команде Советского Союза. Ряд авторитетных коллег-специалистов (Н.С.Эпштейн, В.М.Бобров и др.) считал изнурительный режим тренировок губительным для игроков, и открыто не разделял взглядов Тарасова. Он же, доказательством своей правоты, сделал регулярные (с небольшими «перебоями») победы ЦСКА в чемпионатах СССР и других турнирах, и постоянное преобладающее представительство армейцев в составе сборной страны.
Человеческая и житейская мудрость позволяла А. Чернышеву «по умолчанию» разделять тарасовское стремление к предельно тяжёлым тренировочным занятиям в национальной команде на летних сборах (самых трудоёмких в году). Как тренер же, он хорошо понимал, что игрокам «неармейского» набора (в т.ч. и его динамовцам) это только на пользу. И поэтому Тарасов безраздельно властвовал в ходе всей межсезонной подготовки.
Вопросы комплектования команды решались тренерами коллегиально, по взаимному согласию. Исключением был (стал) лишь сезон 1963-64 гг., когда шло формирование состава к зимней Олимпиаде в Инсбруке. Нарушая хронологию изложения, расскажем об этом эпизоде.
По мнению Чернышева, динамовское звено Петухов – Юрзинов – Ю.Волков (все чемпионы мира 1963 г.) должно было на Олимпиаде представлять одну из троек нападения. Тарасов, ощущая возрастающую силу игры Фирсова, предлагал ввести его в это звено вместо Волкова. Матч в Москве (за 2 недели до Олимпиады) со сборной командой Канады подтвердил неудержимую мощь такого сочетания – 4 (!) гола из 8-ми. Аркадий Иванович убедился в правоте коллеги - компромисс был достигнут. Но воплотить в жизнь этот замысел не довелось: острый аппендицит (и неотложная хирургия) сразил великолепно (лучше всех!) подготовленного на тот момент В.Юрзинова. В Иннсбрук поехали Петухов, Фирсов, Л.Волков (ЦСКА) и В.Якушев, и в ходе турнира сформировали боеспособное (самое результативное!) третье звено.
Тренерский дуумвират сделал из случившегося самые правильные выводы. Впредь, при подобных разногласиях, конкурирующие между собой звенья разных клубов, должны были доказывать своё превосходство над «коллегой-соперником» в очном игровом противостоянии в календарных матчах клубов. Соревнование звеньев на клубном уровне продолжалось с самого начала сезона, вплоть до чемпионата мира. Даже на тренировочных занятиях внутри национальной команды такие звенья выставлялись друг против друга. Статистика этих микроматчей учитывалась тренерами при окончательном комплектовании команды. Субъективизм оценок тем самым сводился к минимуму.
Итак, мы подробно описали важнейшее в истории советско-канадских хоккейных отношений событие – зарождение и становление творческого союза и созидательной работы в сборной СССР двух выдающихся, навечно ставших непобедимыми в мировом хоккее советских тренеров А.Чернышева и А.Тарасова. Последовавшее за этим терпеливое и непреклонное «наступление на канадский редут», длившееся 10 нелегких лет, заслуживает подробного описания и анализа.
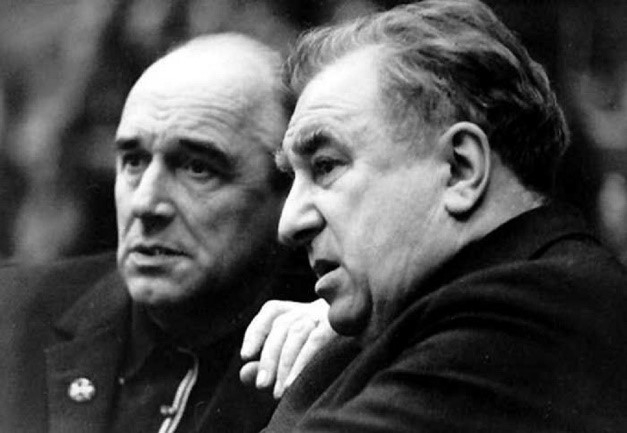
Перед тренерами стояла важнейшая задача - вернуть нашему хоккею утраченное с 1957 года, и ни разу ни одним из них в одиночку не возвращённое звание чемпионов мира. Проблема кардинального обновления состава сборной страны, а точнее, «перехода» его (состава) на новое поколение хоккеистов, была практически решена ещё в конце 1961 г. Всесоюзный тренерский совет по хоккею (А.Тарасов в него на тот момент не входил) с подачи А.Чернышева утвердил перечень игроков - 4-х вратарей, 5 пар защитников и 6 троек нападения, из которых должна была формироваться сборная СССР на чемпионат мира 1962 г. (в том списке было всего 3 заслуженных мастера спорта СССР, а к сезону 1962-63 гг. остался и того один). Это были спортсмены новой формации, их главной задачей, профессиональной и жизненной, было завоевание места под солнцем. Поэтому никакого трепета перед авторитетами (отечественными или зарубежными) они не испытывали. Напротив, будучи сверстниками и искренними единомышленниками, ощущали себя как будущее советского хоккея. Достаточно напомнить, что в том 1962 году, незадолго до злополучного ЧМ (на который сборную СССР не пустили политиканы из ЦК КПСС) наши хоккеисты дважды в Стокгольме обыграли сборную Швеции, ставшую уже через 3 недели бесспорным чемпионом мира.
Международный сезон сборной СССР 1962-63 гг. сразу, с места в карьер начался с турне по Канаде (ноябрь месяц). Там предстояло провести 9 матчей с довольно плотным графиком встреч – в течение 2-х недель. Принимая такое решение, тренеры были единодушны. Во-первых, надо было встряхнуть мастеров, отвыкших за 2 года от жесткого, непривычного хоккея – пропустить их через «канадскую мясорубку». Во-вторых, дать понять европейцам (шведам в первую очередь), что в приоритете у нас заокеанский хоккей. Наконец, самим канадцам, которые готовили на чемпионат «Трейл Смоук Итерс» (победителя чемпионата мира 1961 г.), продемонстрировать качественный рост отечественного хоккея и уверенность в себе.
Турне получилось чрезвычайно успешным – 8 побед в 9 матчах. Соперники были разного калибра, многие – хорошо знакомы нашим тренерам по прошлым встречам. Например, нашей команде удалось, наконец, нанести поражение в самой Канаде давнему оппоненту «Китченер Ватерлоо Датчмен» (к тому моменту, правда, изменившему название на «Рейнджерс»). После поражений в 1957 (А.Тарасов, сб. Москвы) и 1960 (А.Чернышев, вторая сб. СССР) годах нам удалось сломить сопротивление этого клуба на его родном льду в Китченере. Самое сильное впечатление на канадских специалистов произвела победа сборной СССР над клубом «Гамильтон Ред Уингс» (Hamilton Red Wings) со счетом 9:5. Этот клуб представлял Юниорскую Хоккейную Ассоциацию Онтарио и являлся фарм-клубом «Детройт Ред Уингс» (ДРУ). Юниоров для игры с нашей командой усилили 8-ю недавними или временно недействующими профессионалами (из Американской и Западной Хоккейных Лиг), и даже из ДРУ. Тот матч был по счету четвертым для нашей сборной в первые 5 дней турне. Любопытно, что тогда против нас играл, готовящийся к переходу в ДРУ, 19-летний нападающий П.Хендерсон. Он сумел забить нам в той встрече один гол, а вспомнить о себе заставил только спустя 10 лет (28 сентября 1972 г.), навсегда войдя в историю хоккея.

Влиятельная «Toronto Daily Star» цитировала послематчевое интервью старшего тренера А.Чернышева следующим образом: «Эта сборная - лучшая команда, когда-либо существовавшая в России. Безусловно данный состав сильнее, чем тот, что приезжал в Канаду в 1957 г. Игроки сегодня моложе и быстрее. Я работал с обеими (?!) командами. Сегодня самому старшему из наших 24 года, а в той команде многим было за 30». Аркадий Иванович немного лукавил, тем более что в январе 1960 г. под его руководством в Канаде играла вторая сборная СССР, выигравшая 6 и проигравшая 4 матча.
Знаменательным, как выяснилось позднее, стал в турне 1962 г. матч нашей команды с лучшими юниорами Онтарио, объединенными с университетскими звёздами Британской Колумбии. Руководил той канадской командой священник Дэвид Бауэр, которому уже тогда было поручено впервые готовить к Олимпиаде национальную сборную Канады. Сборная СССР одержала победу со счетом 6 : 0. Фактически это был международный дебют первой в истории Канады хоккейной сборной, после этого семь лет безуспешно боровшейся с нами за звание чемпионов мира, и просуществовавшей до 1970 г.
Примечательно, что в том турне А.Тарасов впервые увидел игру новой звезды НХЛ Бобби Халла.


Сезон 1962-63 гг. стал переломным в истории советского хоккея не только потому, что команда СССР вернула себе звание чемпионов мира. Важнее скорее то, что она обрела самоощущение коллектива, который способен добиваться победных целей. Речь не идёт об отдельных матчах, и даже каких-то турнирах. Спортсмены обрели уверенность в том, что характер, формат их профессии (прямо у них на глазах) изменился настолько, что не допускает иного пути развития хоккея в стране, кроме победного. К тем, кто попадал в сборную, приходило понимание (подкреплённое практикой), что в советском хоккее формируются условия для его лидирующего положения в мире. Всё это было следствием творческого союза А.И.Чернышева и А.В.Тарасова. И в этих условиях требовались только осознанные личные усилия спортсменов, порой сверхусилия, для и во имя совершенствования индивидуального мастерства.
Победа в Стокгольме в марте 1963 г. была трудной. Неудача (единственная) в игре с хозяевами турнира и чемпионами мира шведами была чувствительной (1:2), и могла обескуражить любую команду. В дальнейших играх сборной СССР требовались только победы. Наши соперники в борьбе между собой тоже теряли очки. В последней игре с Канадой (заключительной игре турнира), добиваясь победы, мы набирали равное со шведами число очков. Несовершенные правила тех лет в таких случаях отдавали победу в турнире команде с лучшей разницей забитых и пропущенных шайб. Независимо от результата их личной встречи (напоминаю, мы проиграли сборной Швеции). Наши спортсмены боролись с канадцами («Трейл Смоук Итерс») до последних секунд встречи и победили (с обязательной разницей в две шайбы) 4:2. А вот шведы, за 5 часов до этого, не смогли даже сыграть вничью «свой» решающий для победы в турнире матч (со сборной ЧССР). Несмотря на издержки правил, судьба победы в том чемпионате мира была в собственных руках каждого из претендентов. И завоевать её удалось именно нашим хоккеистам.

К следующему мировому хоккейному форуму наша национальная команда готовилась в новых и небывалых, незнакомых ей обстоятельствах. С одной стороны, она снова носила звание чемпионов мира (пусть сегодня многие несведущие хоккейные публицисты принижают значимость той трудно добытой победы, простим их). Но при этом перед командой стояла качественно новая задача – вернуть себе высокое звание Олимпийских чемпионов. На Олимпиаду 1964 года в австрийский Инсбрук впервые в истории мирового хоккея готовилась поехать национальная сборная Канады. Во многом именно поэтому руководители нашей команды уклонились от предлагаемого КЛХА очередного турне по Канаде в конце 1963 г. Предпочтение было отдано турне по США, где спарринг-партнерами у нас были клубы профессиональных (AHL и EHL) лиг второго ряда, на 90-95% состоявшие из канадцев. За месяц до этого в Москве сборная СССР наконец-то «надрала задницу» бульдогам из Виндзора («Windsor Bulldogs», Канада) 9:0 и 8:1, расквитавшись за поражения (2:6 и 2:9) 1960 и 1962 гг. А за 10 дней до начала ОИ мы увидели в Москве вновь созданную национальную сборную Канады.
Священник Дэвид Бауэр (бывший хоккеист, преподаватель Университета Торонто) создал уникальные условия для этого коллектива, который он составил из подлинных любителей, в большинстве своём студентов университетов Британской Колумбии и Онтарио. В годовщину 50-летия дебюта (2012 год) национальной хоккейной команды Канады обозреватель Wendy Graves так описал эту историю. «На летнем собрании КЛХА (CAHA) 1962 года Бауэр предложил свою идею: команда, состоящая из лучших университетских игроков, тренируется и готовится вместе за полгода до начала Олимпийских игр в одном из кампусов (университетских городков) Канады. КЛХА одобрила идею Бауэра, но ему требовалась финансовая поддержка. В письме к Джуди Ламарш, тогдашнему министру здравоохранения и социального обеспечения, Бауэр просил помочь Канаде создать свою первую национальную сборную. Пред- и постолимпийские туры команды обещали около 30 000 долларов дохода, но не хватало ещё 21 000 долларов. В своей просьбе Бауэр обратился к национальной гордости министра. «Вступая в эту новую программу, CAHA посчитала, что мы сможем создать канадскую команду, которая (а) была бы по-настоящему национальной по составу, (б) не имела никакого клейма профессионализма и (в) могла бы адекватно представлять Канаду и возможно, вернуть олимпийскую хоккейную корону для нашей страны». В ноябре 1963 года Национальный совет по фитнесу предоставил Бауэру 25 000 долларов. Выделяя деньги, председатель указал, что совет «полностью поддерживает национальное предприятие любительской команды». Совет попросил держать его в курсе того, как работает команда, чтобы можно было быстро рассмотреть любые дополнительные запросы на финансирование. К этому времени Бауэр работал в Университете Британской Колумбии, и его игроки были зачислены на свой первый семестр. После шести недель тренировок команда приступила к графику выставочных игр (33), который включал поездки и встречи с командами различных провинций. Команда завершила свой кросс-тур против Toronto Marlboros в Maple Leaf Gardens 5 января 1964 года, проиграв на этом отрезке в целом 8 матчей». Добавим к этому, что в числе тех встреч были три матча со сборной Чехословакии и две игры со сборной Швеции – обе европейские команды совершали в декабре – январе турне по Северной Америке.

Сборная Советского Союза впервые встретилась с национальной командой Канады 15 января 1964 г. в Лужниках при полном аншлаге зрителей. Поражение канадцев было сокрушительным – 1:8. Некоторые подробности этой встречи мы описали выше. Добавим лишь, что ворота канадцев защищал великолепный Сет Мартин, впервые восхитивший москвичей своей игрой в феврале 1961 года. Восемь пропущенных голов для такого мастера было серьёзным потрясением. Добавим, что его юный дублёр 20-летний Кен Бродерик через 4 дня пропустил 6 голов от сборной Чехословакии. Большая часть состава команды - молодые, неопытные в международном хоккее канадцы (впервые в своей жизни вышедшие на непривычные европейские площадки) - перед борьбой за возвращение титула Олимпийских чемпионов находилась не в самом благополучном психологическом состоянии.

Долгий путь принуждения к соперничеству
Турнир в Олимпийском Инсбруке был нелегким, в каждом матче с фаворитами победы нашей команде давались с трудом. По-другому не бывает на олимпиадах – вспомните хотя бы золотую победу великолепной сборной Канады у себя на родине в Ванкувере в 2010 году.
Все главные соперники боролись с советской командой одержимо. Наша победа в Стокгольме породила у многих раздражение и не была воспринята серьёзно – казалась случайной. Например, сборная Чехословакии специально в декабре-январе провела в Канаде 11 матчей, трижды поборовшись там с новоявленной национальной сборной, и попутно сыграв со сборными США и Швеции. В таком турне наши «соратники по соцлагерю» видели ключ к оптимальной подготовке для успеха на Олимпиаде, памятуя о том, как это сделала наша команда годом ранее. Обиженные у себя дома хоккеисты Швеции тоже жили мыслью об обязательном реванше у русских. Наконец, молодые канадцы, испытав незадолго до этого ряд унизительных, но поучительных поражений, готовы были «биться насмерть» за честь флага и национальное достоинство.
Сборная СССР обыграла всех соперников. Неодинаково ярко, с разной степенью убедительности, но непреклонно. И тактически действовала со всеми очень по-разному. Своей победой она украсила Олимпиаду новым рекордом – 11 золотых медалей одной страны в общекомандном зачёте.

И всё-таки два слова об игре со сборной Канады.
Наши хоккеисты атаковали больше, двигались активней, сумма скоростей каждого звена была намного выше, чем у канадцев. Несмотря на двукратное превосходство советских хоккеистов в бросках (20:10) по воротам, счёт после двух периодов был равный, 2:2. Д.Бауэр понимал, что в последней двадцатиминутке от русских последует шквал атак. Несмотря на то, что в третьем периоде место в воротах занял слегка травмированный ранее С.Мартин, нам (Александров) удалось с первого же броска на второй (1:36) минуте забить победный гол. Зато все последовавшие за этим 19 бросков (в среднем один бросок каждую минуту) Мартин блестяще отразил. Победа с минимальным счётом, но при огромном игровом превосходстве (канадцы сделали только 7 бросков в третьем периоде). Чтобы понять, как пришла эта победа, надо было видеть напор нашей команды! Тем, кто не видел этой игры, грех недооценивать такую победу. И снова хочется в этой связи напомнить о финальном матче за золото на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.


Теперь наступает важнейший этап нашего описания советско-канадских хоккейных отношений. И будет он касаться только матчей сборной СССР на территории Канады (за исключением немногих), во время ежегодных заокеанских турне нашей команды. Подробности этих событий и царившей тогда атмосферы, а также их прямых спортивно-дипломатических последствий, позволят читателю лучше почувствовать неуклонно нараставшее тогда в канадском обществе чувство исчезающей уверенности в непобедимости канадского хоккея. Именно там, на хоккейных аренах этой страны наши спортсмены своими победами приближали долгожданное соревнование с лучшими мастерами Национальной хоккейной лиги Северной Америки. Делали это событие неотвратимым. Ведь «неприкасаемые небожители» НХЛ оставались последним оплотом канадской хоккейной гегемонии. Советские спортсмены, став олимпийскими чемпионами, имели полное основание считать себя сильнейшими хоккеистами мира и добиваться права соревноваться с любым соперником. (далее в скобках приводятся даты публикации в канадской печати)
Сборная Советского Союза по хоккею, Олимпийский чемпион, ведомая тренерами Чернышевым и Тарасовым, прибыла в Монреаль вечером 10 декабря 1964 года после изнурительного 20-часового перелёта из Москвы через Лондон и Нью-Йорк. Руководитель советской делегации Виктор Кузнецов во время встречи в аэропорту заявил, что был бы рад возможности соревноваться с игроками, выступающими в фарм-клубах профессиональных команд. «Мы готовы встречаться с ними в любом месте, но только после согласия на такое соревнование Международной федерации хоккея». Первым соперником русских на следующий день в знаменитом монреальском «Форуме» были запланированы юниоры «Canadians», усиленные 6-ю профессионалами из Quebec Aces (AHL – профессиональная лига второго ряда). Когда Кузнецову начали задавать вопросы о возможном желании русских соревноваться за Кубок Стэнли, он ответил: «Наша первостепенная задача – встретиться с одной из профессиональных команд. А далее будет видно».
«Форум» был заполнен до отказа. В составе канадцев наряду с перспективной, без пяти минут НХЛ-овской молодёжью (Savard, Lemaire, Vadnais, Bordeleau) играли корифеи-ветераны лиги 40-летний Doug Harvey и 35-летний Gump Worsley и покидающий «Montreal Canadiens» Red Berenson. В очень нелегкой борьбе наши с трудом победили – 3:2. Советский тренер Чернышев был интервьюирован сразу после окончания первой встречи. Он выразил вежливое удовлетворение прошедшей нелегкой игрой со ссылкой на 20-часовой перелет. (12.12.1964). Тренер же юниоров Монреаля С.Боумэн на вопрос «насколько хороши сегодня русские?» лаконично ответил: «Ничуть не лучше, чем раньше!», т.е. надо понимать в 1962 году. Комментируя игру, в которой он находился на поле более 40 минут, Д.Харви сказал: «У них хорошая система игры, но это пресный хоккей. Я не увидел игроков высокого класса. Некоторые смогли бы проявить себя в Американской лиге, но, ни один из них не соответствует НХЛ». «Хорошая средняя команда, - вторил ему Г.Уорсли, - Играя по их правилам, игроки НХЛ будут постоянно находиться на скамейке штрафников».
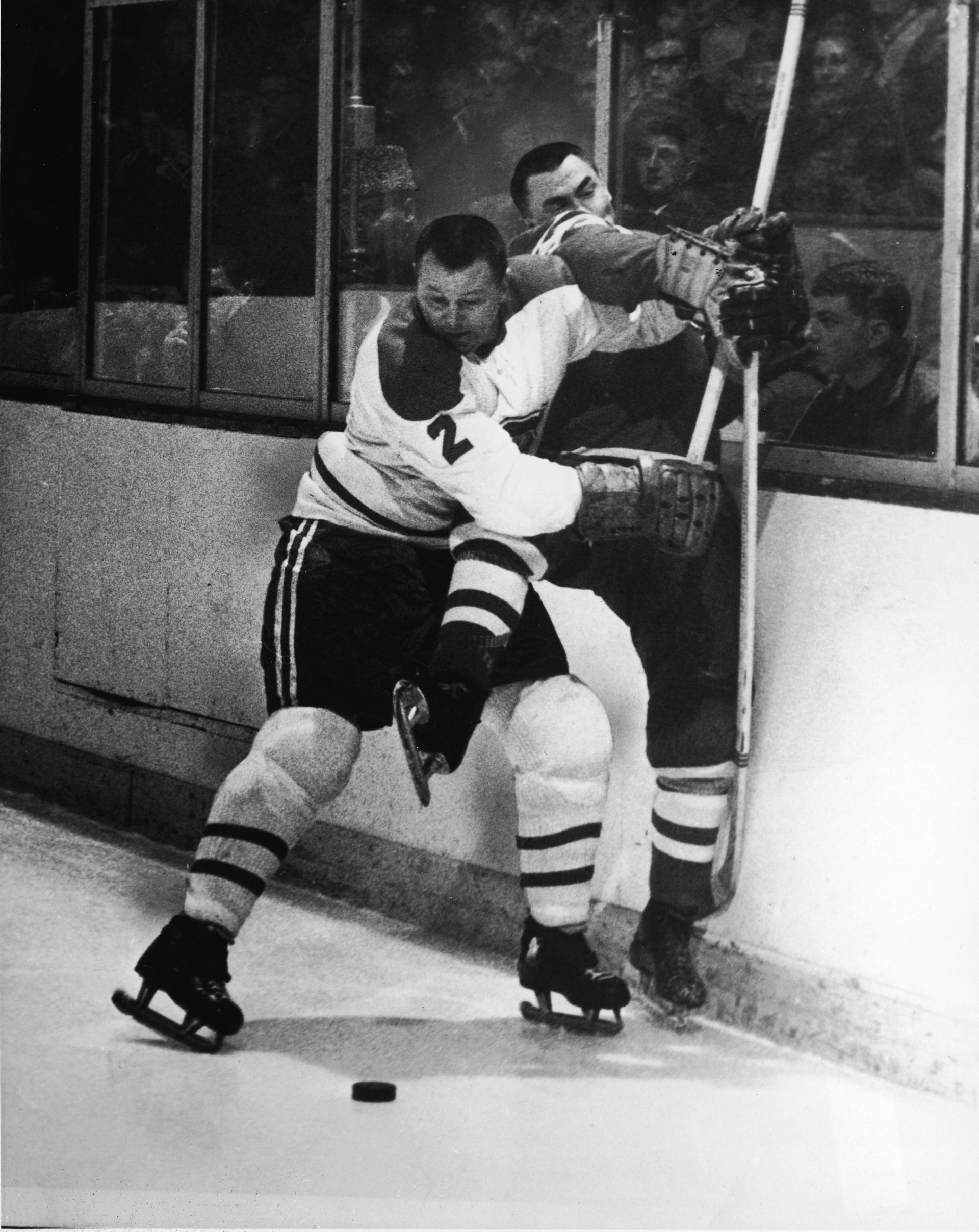

Уже после следующего матча была очередь Тарасова выступать на брифинге, и он ловко уклонялся от провокационных вопросов журналистов, сравнивавших возможности наших и НХЛ-овских хоккеистов. Однако подчеркнул, что есть «разница между силовой борьбой и ударами локтем в кадык», которые позволяли себе канадцы в последних матчах. (14.12.1964). В то же время наблюдавший матч посол СССР в Канаде Иван Шпедько заявил, что желанные встречи с клубами НХЛ помогут советскому хоккею многому научиться и ускорят развитие этой игры в СССР. (14.12.1964)
Через сутки, после просмотра матча «Торонто» – «Бостон» А.Тарасов впервые отметил (как будто отвечая Боумэну), что не видит в игре профессионалов прогресса (за истекшие 5 лет) из-за отсутствия оппонентов. Добавив, что сравнение их с любителями (мы понимаем, о каких «любителях» шла речь – прим. автора) возможно только путем прямого соревнования между ними. «Ваш хоккей не становится сильнее, Вы варитесь в собственном соку! Давайте устроим встречу между вашей профессиональной командой, и нашей любительской, и посмотрим, кто сильнее. Если такие встречи состоятся, вы получите удовольствие. Соревноваться с НХЛ мы будем по нашим правилам». (15.12.1964)
Вслед за этим вице-президент Мэйпл Лиф Гарденс и совладелец «Торонто Мэйпл Лифс» (ТМЛ) Хэролд Баллард, после поражения сборной Канады на его арене «от Советов», обрушился с критикой на руководство Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации (КЛХА/CAHA), упрекая игроков сборной в слабой подготовке. Он высказал намерение впредь на своём стадионе (!) допускать против русских только дублеров ТМЛ, усиленных ветеранами клуба. (16.12.1964). Другой совладелец ТМЛ, с давно знакомой нам фамилией Смайт (но не Конн, а уже его сын Стаффорд) заявил в тот же день, что предложил русским (в случае их возвращения из Колорадо-Спрингс, см.ниже) сыграть в Мэйпл Лиф Гарденс с Rochester Americans (тогда фарм-клуб ТМЛ) из AHL, но CAHA категорически возражала. (16.12.1964). Советская сторона единственным для себя условием выдвигала и считала согласие на эти встречи Международной федерации хоккея.
Виктор Кузнецов, выступая в Виннипеге на послематчевой конференции, по просьбе А.В.Тарасова снова заявил, что бесконечные разговоры и догадки об исходе матчей сборной СССР с профессионалами нашим спортсменам надоели. «Мы готовы завтра же играть с любой командой. Даже по профессиональным правилам». (19.12.1964). Обратите внимание, ровно через 4 дня готовность соревноваться на любых условиях.
Таким образом, в первом же после Олимпиады 1964 г. турне по Канаде А.Тарасов при поддержке руководителя делегации и дипломатов (посол Советского Союза) неоднократно через прессу убеждал ответственных деятелей НХЛ рассмотреть возможность и условия встреч клубов этой лиги с советскими хоккеистами. Как видно из вышеизложенного, руководители клубов большой шестерки также вполне серьёзно обсуждали перспективу таких соревнований.
Завершая рассказ о турне по Канаде в конце 1964 года, нельзя не дополнить его описанием первого международного хоккейного турнира имени Уолтера Брауна (1905-1964) в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США).
Этот турнир организовал Уильям Тайер Татт (William Thayer Tutt). Являясь одним из наследников и продолжателей почти вековой крупной бизнес-империи штата Колорадо, У.Татт щедро инвестировал в развитие хоккея с шайбой и фигурного катания в США. Он сыграл решающую роль в первом (1959 год) приглашении советской хоккейной команды в США. Почтить память Уолтера А. Брауна (помните фотографию с Н.Сологубовым?), своего друга и бывшего президента Международной федерации хоккея с шайбой (1954–1957), а также владельца клубов «Бостон Брюинз» и «Бостон Селтикс», Татт считал своим долгом. Он рассматривал будущее нового турнира как североамериканскую ежегодную альтернативу чемпионатам мира по хоккею. Именно эти два американца были инициаторами и промоутерами чемпионата мира по хоккею 1962 г. в Колорадо-Спрингс, где сборной СССР не довелось выступить.

Одним из важных итогов поездки за океан в декабре-64 были 5 побед над сборной Канадой в 5 матчах. Ещё одну победу сборная СССР одержала над канадцами в Москве за неделю до очередного чемпионата мира (Финляндия, г.Тампере). Правда, состав сборной Канады в той игре был не самым сильным (только треть его поехала в Финляндию). Анатолий Тарасов не упустил случая высказать находившемуся тогда на трибуне пожилому канадскому дипломату свою неудовлетворенность слабым составом канадцев, усмотрев в этом неуважение к советскому хоккею.
Итак, перед мировым первенством, команда Советского Союза имела огромное психологическое преимущество перед канадцами. Но не они оказались для нас главным соперником в борьбе за сохранение чемпионского титула. Очень сильной оказалась сборная Чехословакии, которая по физическим кондициям превосходила всех и, пожалуй, даже нашу команду. Игроки ЧССР разгромили в пух и прах Канаду со счётом 8:0 (перед этим унизительно растоптав команду США 12:0). Обескураженные канадцы (а это было их самое крупное поражение за всю историю чемпионатов мира) через день проиграли шведам 4:6, и к матчу с нами (а он был заключительным и замышлялся как решающий) были окончательно деморализованы. Одной канадской гордости и отваги не хватило для сохранения лица. Наша спокойная и уверенная победа 4:1 отбросила Канаду на 4 место и обеспечила сборной СССР чемпионское звание, третье кряду. Ведь за сутки до этого советские хоккеисты мастерски победили в самом главном и труднейшем матче великолепно подготовленную команду Чехословакии 3:1.
Тем временем, пока в Тампере разгорался чемпионат мира под эгидой МФХЛ, другая хоккейная организация, Национальная хоккейная лига (НХЛ), в Нью-Йорке, решала свою судьбу на совещании (11 марта 1965 г.) Совета директоров (устоявшийся некорректный русский перевод слова governors – по смыслу правильно «Правители», «Хозяева», «Владельцы») своих клубов. Результатом стало решение о программе расширения лиги и увеличении её на шесть команд, т.е. вдвое. Убежденным идеологом и локомотивом этих перемен был Билл Дженнингс (Bill Jennings), один из хозяев «Нью-Йорк Рейнджерс». Он выступил с этой инициативой ещё в 1963 г., но его меморандум коллеги обсудили тогда лишь в общих чертах. Через полгода Дженнингс, оперируя фактами и цифрами, напомнил членам Совета, что НХЛ была закрыта для сетевого телевидения США уже 4 года. А тем временем баскетбольная (NBA), футбольная (NFL) и бейсбольная (MLB) лиги и ассоциации Северной Америки регулярно в последние годы заключали выгодные сделки с ТВ корпорациями. В январе же 1966 года NFL готовилась подписать двухлетний контракт с CBS (Columbia Broadcasting System) на 38 миллионов долларов и опцион на третий контракт на 19 миллионов долларов. Экстраполируя эти данные на НХЛ в сезоне 1965-66 - регулярный сезон и плей-офф – можно было рассчитывать на доход в 11 миллионов долларов. Так Дженнингс и его партнёр по подготовке этого вопроса Дж. Дэвид Молсон («Монреаль Канадиенс») сумели склонить Совет к единодушному решению о расширении НХЛ.
Это решение, по словам президента лиги К.Кэмпбелла (C.Campbell), явилось ответом на многолетнюю критику НХЛ как «стабильной, высокодоходной и фактически не прогрессирующей организации». «Большая» (позднее её стали называть «оригинальной») шестёрка оставалась неизменной с 1942 г., т.е. четверть века. Другим важным мотивом такого решения являлось намерение создать на Западе континента постоянную привлекательную сеть для щедрых инвестиций от заинтересованных телевизионных североамериканских корпораций. Ведь существующие 6 стадионов (читай, матчи клубов на этих аренах) НХЛ – все на востоке континента, полностью «выкупленные» телевещанием на годы вперед, достигли предела своего потенциального дохода.
Лига заявила (уже 24-25 июня 1965 г.) о готовности рассматривать обращения от «ответственных финансовых групп, представляющих города (как в Канаде, так и в США), где действуют клубы более низких профессиональных лиг». Новые клубы будут опираться на составы существующих команд и их миноритариев. Таким образом, 108 игроков низших лиг (по 18 на команду) получат работу в НХЛ. «Очень многие, - отметил Кэмпбелл, - заявляли о своём желании влиться в НХЛ, так что теперь мы выясним, насколько это серьёзно». Хозяева клубов не называли города, но первоначальными кандидатами могут быть Лос-Анджелес и Сан-Франциско – где есть адекватные по размеру стадионы – и Ванкувер из Канады, при условии, что там будет построена надлежащая арена (члены Совета НХЛ были единодушны в необходимости движения на Запад). Важным условием была обязательность одновременного вступления в Лигу всех шести новых команд. НХЛ не допускает индивидуального присоединения, что укрепляет её позиции. Часто упоминались также города Балтимор, Питтсбург, Сэнт-Луис, Миннеаполис (обратите внимание – все США).
Обязательным условием создания собственного клуба в НХЛ были объявлены предварительный взнос в размере 1 млн. долларов США (сумма ежегодных расходов одной команды лиги) и владение (или долгосрочное заимствование) спортивной арены масштаба НХЛ.
Длительные дискуссии на совещании, а затем и медийные комментарии были посвящены вопросам рекрутирования, выбора игроков и возможного размывания талантов, что может не понравиться публике. Важнейшим изъяном расширения виделось снижение уровня (качества) игры, и Кэмпбелл признал это: «Хотя мы вынуждены снизить качество «продукта», мы всё же уверены, что в долгосрочной перспективе лига начнёт генерировать игроков иного, более высокого калибра».
«Как скоро?», - был задан вопрос. «Через одно поколение» - ответил Кэмпбелл.
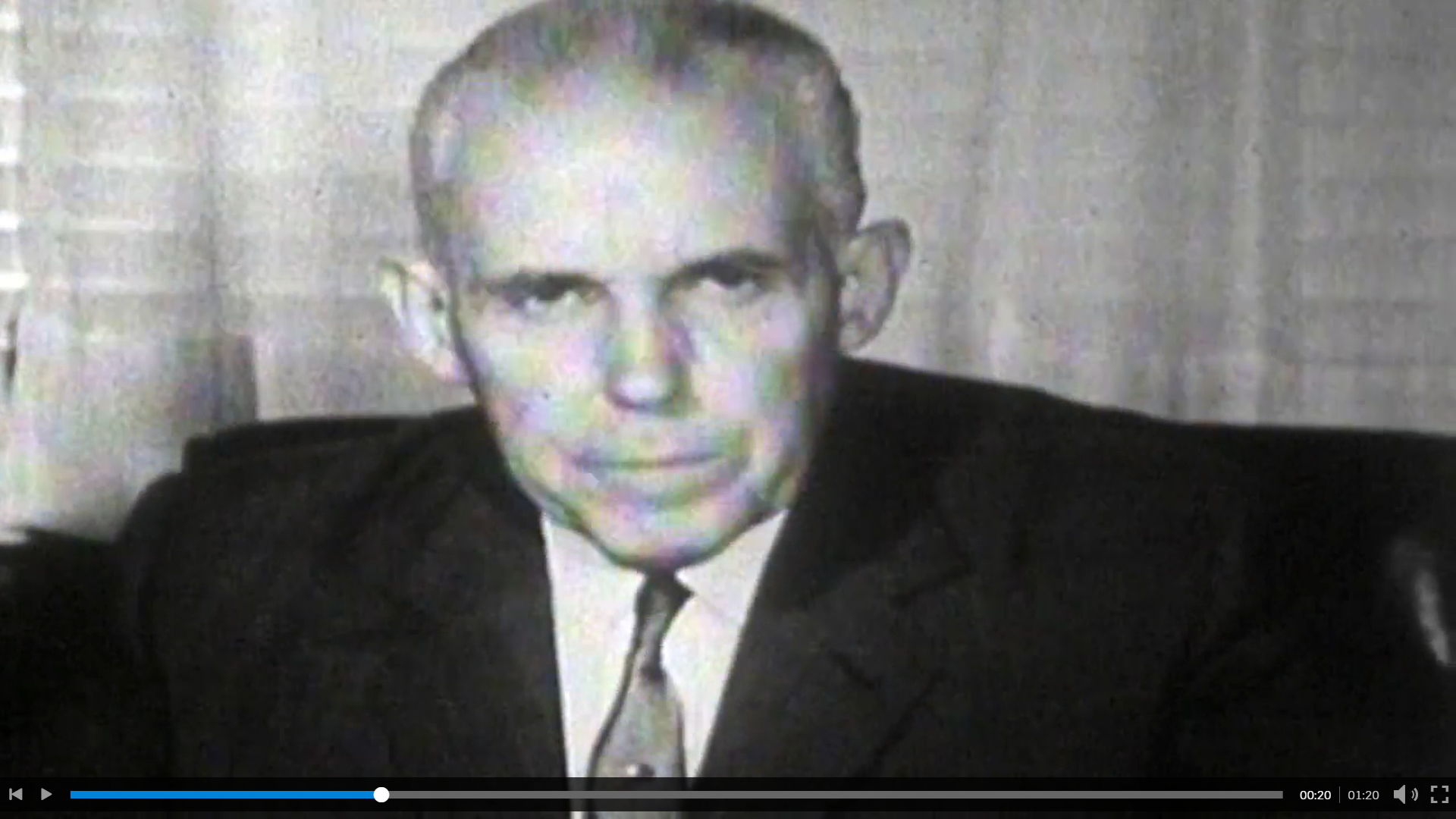
Спустя десятилетия мы поймём и оценим значение этого исторического решения руководства Национальной Хоккейной Лиги, которая сегодня насчитывает уже 31 клуб.
Беглый пересказ наших победных достижений на чемпионатах мира мы, как подчеркивалось ранее, позволяем себе сознательно. Не победам нашей команды на официальных турнирах посвящено это повествование. Своим исследованием мы стремимся показать, что дух и навыки спортивного превосходства над хоккеем Канады, уверенность в нём рождались и закалялись нами прежде всего на канадской земле. На спортивных аренах противника, в трудных и довольно чуждых поначалу условиях, в режиме турне с постоянными переездами и перелетами на немалые расстояния. Начиная с ноября 1962 г., практически ежегодно, мы играли на неудобных площадках с командами Канады разного, но значительного калибра. Половина этих встреч приходилась на национальную сборную этой страны. Ту, что по замыслу патера Д.Бауэра была наречена воссоздателем славы хоккейной державы на международной арене.
Поэтому снова, в очередном декабре, но уже 1965 года, вместе со сборной командой СССР отправляемся на родину хоккея. И опять, уже после первых же двух наших убедительных побед над сборной Канады, тема роста мастерства советских хоккеистов и их готовности соревноваться с профессионалами всплыла вновь. Первым её поднял генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Сэм Поллок (Sam Pollock) – помните, тот, что возглавлял «Hull-Ottawa» в 1957 г. Он признал, что калибр наших спортсменов достиг уровня, при котором из них можно сформировать клуб, способный соревноваться с лучшими командами Северной Америки. «Всегда будет возникать вопрос кто лучше – они или мы? Они теперь настолько хороши, что могут формировать собственную команду профессионалов против лучших наших профи, а своим любителям доверить соревнование с нашими любителями». (14.12.1965)
Не отставал от Поллока и старший тренер (и одновременно тоже Генеральный менеджер) «ТМЛ» Панч Имлэк (Punch Imlach). «Прекрасный хоккей. Мне очень нравится их игра. Русские великолепно катаются, пасуют и бросают по воротам. Совсем немного времени потребуется их лучшим игрокам, чтобы адаптироваться в НХЛ». (15.12.1965)
Очень интересную позицию своего клуба в отношении перспективы встреч с «русскими» сформулировал Президент «Монреаль Канадиенс» Дж. Дэвид Молсон (J. David Molson), назначенный на эту должность годом ранее владельцем команды, его дядей сенатором Канады Хартландом Молсоном (Hartland de Montarville Molson). По его убеждению, обязательно должны быть соблюдены три условия: 1. соперник «Монреаля» должен официально заявить свой профессиональный статус; 2. игры должны проводиться только по правилам НХЛ; 3. финансовые условия соревнований должны быть выгодны канадскому клубу. (18.12.1965)
Турне выдалось на славу и оказалось чрезвычайно интересным. Сборную Канады мы обыграли в 4-х матчах из пяти. Победили сборную юниоров Онтарио и Квебека, в которой против нас играли юный Бобби Орр (17 лет), а также Серж Савар (19 лет) и Дерек Сэндерсон (19 лет). В течение полутора суток наша команда, пролетев между Виннипегом (Канада) и Споканом (США) 1800 км, одержала подряд две победы, сначала над сборной Канады, а затем над командой «Spokane Jets» из WIHL.
Но украшением этой поездки стал всё-таки матч с юниорами «Montreal Canadians». Об этой игре написано много воспоминаний. И не только советскими спортсменами, и специалистами. Канадцы гордились той победой, и не без веских оснований. Форум хоккейных статистиков им. Малеванного подробно, наглядно иллюстрируя, описывает это памятное событие. Мы позволим себе напомнить читателю некоторые немаловажные подробности.
Предчувствие Саммита

Юниоры «Монреаль Канадиенс» (Montreal Junior Canadians) существуют как фарм-клуб молодых хоккеистов (возраст до 20 лет) великого «Монреаля» с 1950 года, и относились тогда к лиге QPJHL. С 1956 года эти функции дубля профессионалов Монреаля были переданы команде «Hull-Ottawa Canadians» из лиги OHASr. Именно с этим клубом сборная Москвы играла дважды в 1957 г. и оба матча выиграла. Мы уже описывали эти встречи и квалифицировали их как «первое противостояние с «Монреалем». Тогда главным тренером и менеджером команды были Скотти Боумэн и Сэм Поллок. В 1962 году, когда снова возродились Montreal Junior Canadians (тренер – Клод Рюэль), наша сборная обыграла их в «Форуме» 5:2. В 1964 году, в переполненном (15678 зрителей) «Форуме», победа далась советской команде с большим трудом – 3:2. Тренировал юниоров в том сезоне уже Скотти Боумэн.
И вот, декабрь 1965 г. Очередной визит сборной СССР. «Montreal Junior Canadiens» для этой игры усилены лучшей пятеркой профессионального клуба «Houston Apollos» (CHL) (игроки которой бывали и в составе главной «Montreal Canadiens») и великим вратарём Монреаля Жаком Плантом (Jacques Plante), который уже был вне активного хоккея. Основу команды составляли 18-19-летние будущие гранды НХЛ и ВХА Ж.Лемер, К.Бордело, С.Савар, К.Ваднэ, Н.Фергюсон, Л.Гренье, Л.Плео. Здесь следует подчеркнуть, что правила МФХЛ допускали включение на матч в состав команды не более 6-ти действующих профессионалов. Играющие против них «любители» при этом не компрометируют свой непрофессиональный статус. Всем давно известно, как закончилась эта надолго запомнившаяся встреча – победили канадцы 2:1. Игру выиграл (цитирую А.Тарасова) Ж.Плант, которого почти полный (14981 зритель) «Форум» 5 минут стоя провожал овацией. Участвовать в том матче великий канадский вратарь – инициатор вратарской маски - согласился, несмотря на то, что уже 2 года не играл в хоккей. «Мои парни играли хорошо, особенно в третьем периоде», - сказал Скотти Боумэн. «Я подметил, что русские жестче и грубее на своей половине поля. А впереди не столь хороши как раньше - много офсайдов и брака в передачах».
Хотя почти половину времени на лёд выходили профессионалы, перечисленная выше молодежь не выглядела слабее. Факт превосходства канадцев в третьем периоде говорит об отсутствии нашего, ставшего привычным в игре с Канадой, главного козыря. По запасу игровой и физической выносливости в этот раз мы не превзошли соперников. И совершенная игра Планта только один из факторов, определивших победу канадцев. Наша команда не сумела (или не смогла) повысить игровую активность в заключительном периоде. Мы сделали очень немного бросков (26) по воротам Монреаля, а в третьем периоде в этом даже уступили. Зато канадцы были верны своему главному игровому инстинкту, и за полминуты до финальной сирены забили победный гол! В послематчевом интервью А.Чернышев объяснил, что команда проводила 8-ой матч за последние 13 дней (3 из них в Европе), и запас сил у неё не беспределен.
Когда Ж.Плант в оставшиеся 29 секунд игры медленно кружил около своих ворот, зал встал и вместе с финальной сиреной разразился продолжительной овацией. Вратарь был заметно тронут коллективной симпатией фанатов «Форума». Ведь последние два сезона своей карьеры голкипер играл в «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ничего подобного ранее в «Форуме» у меня не было. Когда в Нью-Йорке мы победили «Детройт» со счетом 3: 0 в моей первой игре за «Рейнджерс», у меня были овации. Но когда такое происходит прямо дома, это слишком волнительно, до дрожи в ногах и комка в горле».
Итоги декабрьского визита советской сборной в Канаду в конце 1965 г. подвели сами канадские хоккейные обозреватели, сделав главный акцент на неизбежности встреч с клубами НХЛ в обозримом будущем.
«Пока в Канаде растёт недоумение в связи со слабой игрой национальной команды, русские посмеиваются про себя. Они в нашей стране только с одной целью: повысить уровень своего хоккея. Несмотря на трудную победу над юниорской командой «всех звёзд», на поражение от юниоров «Монреаля» во главе с Жаком Плантом, русские продолжают учиться.
Наблюдая тренировку «ТМЛ», Анатолий Тарасов, любимый всеми русский тренер, постоянно вёл записи по объёму близкие к роману «Война и мир». Всё это позднее ляжет в основу его доктрины, как побеждать Канаду в её национальном виде спорта.
Были разные предсказания о том, какую порку могут устроить «Canadians» или «Leafs» этим выскочкам. И это напоминало кукольное представление, когда одна авторитетная «говорящая голова» из НХЛ предсказывала разгром для русских, а остальные согласно кивали.
Мало сомнений в том, что команда НХЛ сокрушит русских. И никто не понимает это лучше, чем сами русские. Они не бьют себя в грудь, обещая победить команды большой шестёрки. Они просто понимают, что для совершенствования им необходимо играть с лучшими командами, т.е. с клубами НХЛ.
«Советы», вне всякого сомнения, готовы выдержать любые удары (в прямом и переносном смысле) от НХЛ, как неотъемлемую часть учебного процесса. Однако, фантастический прогресс хоккея в СССР говорит о том, что очень скоро наступит день, когда они бросят вызов клубам НХЛ, чтобы соревноваться с ними на равных.
Организация таких матчей может походить на соревнование США и СССР в отправке на Луну космических кораблей для их одновременной посадки. Русским, во-первых, надо забыть угрозы господина Дж.Ахерна отстранить их от мирового форума. Это всё равно как не допустить председателя аристократического клуба на торжественный ежемесячный ужин. Русские и ЕСТЬ мировой форум.
НХЛ должна решить, хочет ли она давать русским такой шанс. Подлинная серия хоккейных матчей между Россией и лучшим клубом НХЛ – захватывающая перспектива.
Советы стремятся доминировать в хоккее, НХЛ одержима финансовым успехом*. Это сочетание, в конечном счёте, гарантирует саммит - встречу на высшем уровне» (Frank Orr, 18.XII.1965, «Toronto Daily Star»).
Тарасов сделал из случившегося самые решительные выводы, и ему удалось в этой связи предпринять безотлагательные ответные меры. Вскоре, в середине января 1966 года в СССР оказался обладатель Кубка Аллана (высший титул любительского клубного хоккея Канады/CAHA) команда «Шэрбрук Биверс», завершавшая турне по Европе. История о том, как Анатолий Тарасов организовал матч с этими канадцами против ЦСКА на открытом стадионе в городе Калинин, хорошо известна любителям хоккея нескольких поколений. Она красочно, довольно карикатурно, как всегда с неуёмной фантазией пересказана тренером всё в том же документальном фильме «Хоккей Анатолия Тарасова». Умышленно агрессивная и устрашающая силовая игра армейцев на протяжении двух третей матча привела к полной моральной капитуляции руководства клуба из Канады. Во втором перерыве матча тренер канадцев Жорж Руа, имевший в составе уже 5 травмированных игроков, по утверждению нашего тренера Тарасова просил «о пощаде». Этот факт не обошли вниманием канадские газеты, правда, закамуфлировав его в дипломатическую упаковку, сдержанно описав «ледовое побоище» в Калинине (19.01.1966), как матч, ставший предельно грубым из-за низкой квалификации русских судей.
Одним из немногих живых участников того матча является Виктор Полупанов, заслуженный мастер спорта, Олимпийский и неоднократный чемпион мира тех лет. Его свидетельства были бы интересны сегодняшнему читателю, и мы надеемся, что на goldenpuck.ru появятся воспоминания об этом
Очередной Чемпионат мира МФХЛ 1966 года снова выиграла сборная СССР. Победа не была абсолютной, мы потеряли очко в матче со шведами. Судьба золота решалась в последнем матче с командой Чехословакии, которой для чемпионского звания хватило бы ничьей. Но именно в решающей встрече наша команда была неудержимой – 7:1. Сомнения в силе команды Советского Союза были развеяны.
Матч со сборной Канады получился нелёгким, но заурядным. Практически неизменный состав наших соперников не мог предложить ничего нового в сравнении с декабрьскими матчами (тогда мы победили в 5 играх из 6-ти). Строго выполняя тактическое задание тренеров, хоккеисты СССР в позиционной игре были точнее и собраннее, и победили убедительно со счётом 3:0. Ничем особо не примечательный матч.
Но в ходе этого чемпионата официальный руководитель советской делегации Роман Киселев обратился к руководству МФХЛ с просьбой разрешить российской команде играть с профессионалами Канады. Киселев заявил о готовности Советской федерации объявить свою команду профессиональной, что может произойти, если российские любители сыграют с профессиональными командами. Если это состоится, заявил Киселев, то бороться за мировые и олимпийские титулы будет другая российская команда. Русские, конечно, «предпочли бы, чтобы их команда имела возможность одновременно играть как с профессионалами, так и участвовать в любительских соревнованиях».
Ведущий хоккейный обозреватель «Торонто Дэйли Стар» Джим Праудфут беседовал с Президентом МФХЛ Джоном Ахерном, и последний довольно скептически комментировал эту инициативу: «Я не думаю, что для русских разумно играть с профессионалами. Это тупиковый путь, ведущий в никуда. Если победят профессионалы, случится то, чего все и так ожидают. Если выиграют русские, хоккею Северной Америки будет нанесен большой урон. Мне кажется, обеим сторонам есть много чего терять, но мало, что приобрести. Но если они этого хотят, Федерация (МФХЛ – прим. автора) не может воспрепятствовать этому». (09.03.1966)
Видимо не случайно всего через две недели тема взаимоотношений НХЛ с любительским хоккеем зазвучала из уст представителей коллективного руководства Национальной хоккейной лиги. Член Совета Директоров НХЛ, генеральный менеджер «Детройт Ред Уингс» Сид Эйбл (Sid Abel) в Торонто, на брифинге перед матчем его команды с «Торонто Мейпл Лифс», заговорил о предстоящем через сезон (1967-68 гг.) удвоении числа клубов НХЛ. Окончательное решение этого вопроса состоялось на трехдневном заседании Совета Директоров НХЛ в Нью-Йорке, и было оглашено 9 февраля 1966 г. Главной проблемой этого преобразования руководитель клуба («ДРУ») и его владелец Брюс Норрис (Bruce Norris) считают ослабление притока талантливых игроков (в силу удвоения их требуемой численности) должного калибра из Канады и США. Это грозит «снижением качества продукта» и падением интереса к матчам НХЛ как у зрителей, так и у телевизионных корпораций. Поэтому одним из важных источников будущего пополнения клуба они видят хоккей Европы. «Наш первый шаг заключается в установлении контакта с Дж.Ахерном, через которого должны решаться такие вопросы. Если удастся добиться его расположения, мы готовы спонсировать как клуб, поставляющий игрока, так и саму лигу клуба». Эйбл подчеркнул, что, если поддержка Ахерна будет достигнута, и подобное разрешение получено, они сосредоточат своё внимание на Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании. «Мы очень были бы заинтересованы в игроках из Чехословакии, но эта страна за Железным занавесом, и я сомневаюсь, что там мы добьёмся чего-то». (25.03.1966)
Ссылка на это, казалось бы, частное мнение, прозвучавшее на фоне едва завершившегося любительского чемпионата мира по хоккею, сделана нами осознанно. Потому что она отражает обеспокоенность владельцев и управляющего блока НХЛ предстоящими и непредсказуемыми последствиями расширения лиги. И здесь нельзя обойтись без детального описания того, как принималось это историческое и во многом неизбежное решение владельцами всех 6-ти команд Национальной Хоккейной Лиги. Но для этого необходимо обратиться к истокам.
«Оригинальная шестерка» формировалась 25 лет, собрав сливки хоккея Канады к 1942 году. Владельцами этих клубов были представители особо крупного североамериканского бизнеса, люди чрезвычайно состоятельные и успешные. Они ковали своё богатство в различных бизнес-областях в самом начале ХХ века, в суровые годы установившегося капитализма и Великой депрессии. Хоккей (да и другие виды спорта) был для многих из них эффектной и увлекательной сферой инвестиций, позволяющей придать основной части их предпринимательства особую привлекательность, публичность и гуманность. А для некоторых – ещё и неугасающей страстью их личного опыта игры в хоккей в годы юности. При этом почти все клубы НХЛ (исключая, пожалуй, «Нью-Йорк Рейнджерс») в последующие 25 лет (до 1967 г.) управлялись семейными бизнес-династиями, передававшими по наследству из поколения в поколение свои хоккейные предприятия. Потомки некоторых первоначальных владельцев «оригинальной шестёрки» и по сей день владеют и управляют своими клубами.
Итак, к моменту регулярного появления советского хоккея на аренах Канады, Совет Директоров (владельцев) клубов НХЛ формировали следующие главные фигуры – Хартланд Молсон и Фрэнк Селке («Монреаль Канадиенс»), Стаффорд Смайт и Хэролд Баллард («Торонто Мэйпл Лифс»), Уильям Дженнингс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Джеймс Норрис и Уильям Уортц («Чикаго Блэк Хоукс»), Чарлз Адамс и Арт Росс («Бостон Брюинз») и Брюс Норрис и Сид Эйбл («Детройт Ред Уингс»). Уолтер Браун (см. выше), недавний полноправный владелец «Бостон Брюинз», уже покинул этот мир, не дождавшись исторического события. Председателем Совета в тот момент был Джеймс Норрис, человек необычайно состоятельный, входивший к середине 60-х годов в число 50-ти самых богатых людей Соединенных Штатов Америки. Вышеназванные персоны более 20 лет управляли своей яркой и увлекательной зрелищной индустрией и готовились увеличить её масштабы вдвое. Все они понимали объективную необходимость и неизбежность для каждого из них (и для всех вместе!) этого смелого финансово-политического шага. Но всё же, оставаясь конкурентами, воспринимали его далеко не единодушно. Фактически они приглашали в свой элитный клуб новых и более молодых, жадных до быстрого финансового успеха бизнесменов уже иной формации. Хоккейная Северная Америка ждала начала перемен, которые, по словам (см. выше) Президента НХЛ Кларенса Кэмпбелла должны были дать эффект через поколение*. Всё происходящее на первый взгляд было далеко от содержательной сути самого хоккея – ведь сама спортивная, соревновательная составляющая бизнеса не менялась. Но географическая экспансия изменила среду обитания, прежде всего медийную, а, следовательно, и финансовую. Спортивный шоу-бизнес неизбежно должен был повысить свою привлекательность, а значит приумножить аудиторию.
Хоккей Советского Союза в этих новых для Канады обстоятельствах не имел каких-либо оснований менять свою сверхзадачу и генеральную линию. Необходимость соревноваться с НХЛ оставалась жизненным условием его дальнейшего развития.
* Давайте на мгновение перенесёмся на 25-30 лет (возраст одного поколения) вперёд и посмотрим на международный хоккей начала 90-х с позиций советско(уже российского)-канадского противоборства. Итак, в каком состоянии находится НХЛ с одной стороны, и на что похож недавно переставший называться советским, российский хоккей?
К 1993-му году в НХЛ уже почти завершилась «русская революция»: лучшие хоккеисты СССР – и многократные чемпионы мира, и особенно перспективная молодёжь – скопом переместились в клубы Национальной хоккейной лиги. В сезоне 1992-93 гг. в командах НХЛ выступало более 50 самых лучших хоккеистов Советского Союза. Перечислить имена? Нет необходимости. Кто любит и изучает хоккей, знает их назубок. После сезона 1993 г. Россия не смогла одержать ни одной победы на не самой высокой пробы чемпионатах мира до 2008 г. – целых 15 лет, а на Олимпиадах – 30(!).
Таков, на наш взгляд, один из итогов развития (именно развития, а не только расширения) Национальной хоккейной лиги, начатого в 1967 году.
Юбилейный 1967

Тема неотвратимости встреч с профессионалами по-прежнему оставалась актуальной и в ходе следовавших в 1966 – 1967 гг. один за другим очередных визитов сборных (2-ой и 1-ой) СССР в Канаду. Но градус полемики был уже не столь высоким из-за откровенного желания руководства CAHA (КЛХА) доказать наконец конкурентоспособность своей национальной сборной. Канадцам удалось сместить акцент дискуссии о хоккее «с русскими» благодаря усилению сборной Канады. Оно было жизненно важным именно в этом сезоне по ряду серьёзных причин.
В 1967 году на родине хоккея всенародно праздновали 100-летие Канадской конфедерации. Этому историческому событию посвятили весь календарный год. В момент открытия торжеств на Парламентском Холме был установлен Огонь Столетия. В конце года, благодаря гражданскому согласию Огонь Столетия не был погашен, а сохранён действующим в знак осознания Канадой самодостаточности и зрелости нации. Фактически он стал вечным огнём, но носит своё первоначальное название. В этом же году Канада принимала у себя крупнейшее мировое торговое и экономическое мероприятие – международную выставку ЭКСПО-67 в г.Торонто. Одним из знаковых событий этого юбилея стал и международный турнир по хоккею под названием «Кубок Столетия» («Centennial Cup»). Не удивительно, что он был первым общенациональным мероприятием, открывшим Юбилейный год. В Виннипеге с 31декабря 1966 по 6 января 1967 года сборные команды Канады, США, Советского Союза и Чехословакии провели однокруговой турнир. Канада одержала полную победу, обыграв всех соперников. Сборную ЧССР – 5:3, сборную США - 7:1 и в последней встрече сборную СССР – 5:4. Получился подлинный триумф на родине, и всем виделись заметно возросшие шансы на победу в предстоящем через 2 месяца чемпионате мира в Вене.
Сборная Канады сезона 1966-67 гг. была сильнейшей за всю историю её недолгого (с 1963 по 1970 гг.) выступления на чемпионатах мира. В ходе подготовки к мировому первенству она провела небывалое число контрольных матчей – за 4 с небольшим месяца 48. Из них 12 игр (при 11 победах) с командами различных профессиональных лиг, в числе которых 2 победы в 3 матчах над «New York Rangers» (НХЛ). Из 20 игроков сборной Канады того созыва 2/3 в последующие 3 года стали постоянными игроками различных (в том числе сильнейших) клубов Национальной хоккейной лиги. Украшением той канадской команды был 28-летний защитник Карл Брюер (Carl Brewer), временно и сознательно отказавшийся от профессионального статуса. Остановимся на этом персонаже поподробнее.
Брюер к своим 28 годам уже прочно завоевал авторитет признанной фигуры в НХЛ – он был лучшим защитником «Торонто Мэйпл Лифс» в трех победных сезонах (1962, 1963, 1964) в борьбе за Кубок Стэнли. Все последующие годы, вплоть до его ухода из «ТМЛ», партнёры считали его ключевой фигурой тех победных финалов плей-офф, особенно в борьбе за Кубок 1964 года. Независимый и свободолюбивый человек, несмотря на свою роль одного из лидеров команды, он находился в постоянно тлеющем конфликте с менеджером и главным тренером «ТМЛ» Панчем Имлэком. Не добившись с ним консенсуса по сумме очередного годового контракта, Брюер покинул команду в 1965 году. Именно поэтому почти год ушёл у него на возобновление любительского статуса, после чего он охотно дал согласие присоединиться к национальной команде Канады. Он был искренне заинтересован участвовать вместе с «любителями» в международных соревнованиях, главными из которых были Кубок Столетия и Чемпионат мира в Вене.
Брюер важен для нас в этом рассказе, как объект особенного и длительного внимания тренера сборной СССР Анатолия Тарасова. Этот канадский защитник ещё в 1962 году произвёл на нашего тренера большое впечатление (А.В.Тарасов, личное сообщение, 1963 г.), прежде всего своими физическими качествами. Это был сильный, очень цепкий игрок, действия которого выглядели лёгкими, внешне непринуждёнными и, порой казалось, замедленными. В его катании, с шайбой или без, не наблюдалось сколько-нибудь предельных усилий. При этом он везде успевал, не позволяя себя опережать, особенно когда он действовал в обороне. Ориентация на площадке была у него великолепной, тактическая грамотность органичной. В понимании Тарасова это был идеал защитника, но лишь в канадском воплощении, для хоккея, который культивировала Канада. Защитник «хоккея будущего» в представлении Анатолия Владимировича должен был быть иным. И поэтому, получив возможность «играть против Брюера», Тарасов хотел, сначала проверив в деле (в прямом индивидуальном единоборстве), потом доказать, что наши лучшие нападающие способны переигрывать защитника(ов) такого склада и подобного калибра. Тарасов вовсе не рассматривал появления матёрого профессионала Брюера в сборной Канады, как элемент её чрезвычайного усиления. Не преувеличивал значения этого факта, как это некомпетентно ставят ему в упрёк спустя 50 лет. Просто этот незаурядный мастер стал на некоторое время объектом тренерского поиска и испытания.
Понимая разрушительную мощь этого защитника, Тарасов заставлял своих крайних форвардов стараться в пространстве чужой зоны уходить от «ближнего боя» с ним, избегая перемещения с шайбой вдоль бортов, куда Брюер их охотно и умело оттеснял. Нашим форвардам предлагалось на большой скорости идти прямо на защитника, не боясь столкновения и высоковероятной потери шайбы, при входе в зону выполнять перекрестные смещения, бросать по воротам из-под защитника и двигаться дальше за возвратом шайбы. Когда же в глубине своей зоны Брюер первым успевал овладеть вброшенной туда шайбой, наши форварды должны были быстро и агрессивно его преследовать, атаковать, используя силовые столкновения. Иными словами, от нападающих требовалось вынуждать Брюера действовать непривычно быстро и напряженно.
Поначалу такая тактика, хорошо знакомая нашим нападающим, не приносила желаемого результата. Напротив, Брюер не только уверенно справился с таким напором русских, но и умело провоцировал наших форвардов на нарушение правил, что привело к ряду удалений, на фоне которых канадцы забили нам 2 шайбы. Это первое очное знакомство с маститым канадцем произошло в нашей встрече на «Кубке Столетия». Хозяева льда и турнира заслуженно победили в настоящей борьбе, Брюер был бесспорным премьером (1 гол+1 передача). Последующие две встречи со сборной Канады при полном аншлаге в Монреале и Торонто завершились ничьей и вторым поражением. В этих матчах Брюер уже позволял себе задирать наших нападающих и часто действовал умышленно и без надобности жестко. В действиях канадской команды появилась самоуверенность. Последний матч перед нашим отъездом в Москву проходил в небольшом и хорошо знакомом Китченере. На этот раз сборная СССР победила 5:3. Это было лишь второе поражение национальной команды Канады в сезоне 1966-67, а первое произошло в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» осенью 1966-го.
Тренер Дж.Маклеод не скрывал своего удовлетворения, как это ни странно, от поражения в прощальной встрече с русскими, завершавшими турне. Он видел в этом поражении предостережение игрокам от самоуспокоенности, и давал понять, что главной целью национальной сборной в сезоне, а точнее, в 1967 году, является победа в чемпионате мира в Вене. Хоккеисты намеревались сделать своим соотечественникам в юбилейном году долгожданный подарок – звание чемпионов мира. По-иному расценивали итоги турне сборной СССР по Канаде наши тренеры.
Два поражения, ничья и одна победа на начало января 1967 года – худший для нашей команды итог турне за 4 года! Однако Чернышев и Тарасов, выступая на брифинге перед отъездом домой, и, отметив бесспорное усиление игры канадской сборной, предостерегли соперников от поспешных выводов, способных привести к опасным заблуждениям. Тарасов, в частности, подчеркивал, что плохую службу своей команде сослужили судьи: «Те нарушения правил канадцами, которые они «не замечали», или трактовали как допустимые, в Вене, на мировом первенстве будут беспощадно караться в соответствии с нормами международных правил. Канадским игрокам следует это запомнить».
Ещё жестче и более обстоятельно комментировали последнее поражение от нашей сборной канадские колумнисты. Во-первых, они отметили отсутствие надлежащей выносливости и запаса сил у своей сборной. Во-вторых, подчеркнули, что все были неприятно удивлены «резким прогрессом русских в успешном использовании жестких средств силового укрощения, которые всегда считались исключительной прерогативой канадцев». К примеру, Карл Брюер, однажды искусно атакованный русским игроком с клюшкой наперевес («шлагбаум»), получил значительное рассечение угла рта. Явно запоминающееся, так как он едва мог открывать распухшие губы, отвечая на пресс-конференции на вопросы журналистов. (13.01.1967)
В этом четвертом по счёту матче советская сборная впервые использовала средство умышленного принуждения соперника действовать в рамках строгого соблюдения правил. И объектом такого принуждения оказался маститый игрок НХЛ.
Переместимся в родные пенаты, окунёмся в атмосферу подготовки нашей национальной команды к чемпионату мира. Надо вспомнить, что 1967 год был юбилейным не только для Канады. Волею исторических судеб он оказался таковым и для страны Советов. Под руководством единой с народом коммунистической партии вся страна готовилась отметить Юбилей Великой Октябрьской революции! Поэтому ни один коллектив в нашей стране не мог быть не испытывать «желания» и необходимости посвятить свой ударный труд юбилейной дате Октября. А уж коллективы, находящиеся в центре внимания и обожания всей страны, особенно! Понятно, что руководители сборной СССР по хоккею, коммунисты Чернышев и Тарасов понимали всю меру ответственности за итоги выступления их команды на очередном чемпионате мира.
Немаловажной в этой связи была и атмосфера внутри советского хоккейного хозяйства. Московский «Спартак» под руководством В.Боброва в чемпионате СССР вёл уверенную борьбу с ЦСКА за чемпионское звание. К перерыву на чемпионат мира команды подошли почти с равным числом очков, но «Спартак» демонстрировал более свежий и игривый хоккей, опережая авторитетных армейцев как по числу забитых, так и пропущенных шайб. Помимо хорошо нам знакомых Старшинова и Б.Майорова, в атаке всё увереннее играли 20-летние Е.Зимин и А.Якушев. Но наряду с привычно яркой игрой нападения «Спартака» заметно выделялись его защитники А.Макаров, и, особенно, сибирский новобранец В.Блинов. В хоккейных кулуарах, среди членов Президиума Федерации хоккея СССР стали звучать настойчивые рассуждения о необходимости обновления и усиления защитной линии команды игроками обороны «Спартака». Тренеры первой сборной, не разделяя такой точки зрения, тем не менее, предоставили этим кандидатам возможность проявить себя в тех же условиях, что и у кандидатов в 1-ю сборную СССР. В Канаду, на неделю раньше была отправлена команда № 2, составленная из самых молодых перспективных хоккеистов в возрасте 19-22 лет. Там впервые в борьбе с канадцами (9 матчей) проверялись многообещающие защитники «Спартака». Все три матча со сборной Канады наша молодёжь проиграла – 3:7, 2:5, 1:6. Именно в этих матчах впервые в качестве «любителя» выступал знаменитый Карл Брюер. Один из спартаковцев, Виктор Блинов, выглядел там очень убедительно, и его сразу же, после первого матча с канадской сборной присоединили к команде № 1, которая только что прибыла в Канаду.
Мы уже отмечали, что первая команда СССР завершила выступления в Канаде (декабрь 66 – январь 67) не самым убедительным образом, хотя и выиграла вполне уверенно последнюю встречу у сборной команды хозяев. В окончательном составе сборной СССР для чемпионата мира в Вене так и не оказалось защитников из «Спартака», но их одноклубники молодые форварды-дебютанты В.Ярославцев и А.Якушев должны были дополнить корифеев-одноклубников В.Старшинова и Б.Майорова.
Сомнения в победном успехе на предстоящем чемпионате мира одолевали нашу хоккейную общественность. Неоднократные (5), чего не было с 1962 г., поражения от сборной Канады обоих составов нашей национальной команды не внушали оптимизма. Повторимся, многих раздражало отсутствие внимания руководства сборной к результативной, сильной и залихватской игре в первенстве СССР московского «Спартака». Но, несмотря на общественное и кулуарное давление, тренеры сборной СССР оставались непреклонны.
Перед отъездом в Вену представители нашей хоккейной команды нанесли традиционный визит в редакцию газеты «Комсомольская правда», где получили дружественные напутствия и пожелания успеха. Но даже там прозвучали сомнения некоторых присутствующих в верности выбранного состава. Выведенный этим из равновесия и благодушия А.Тарасов, в заключительном слове, категорично и наотрез заявил: «Только без паники! Мы и на этот раз станем чемпионами мира!»
Сборная Советского Союза шла по чемпионату мира победным маршем. Здесь современному поклоннику хоккея следует объяснить, что эти турниры десятилетиями проводились в один круг (до 1969 г.), команды встречались друг с другом по одному разу. Ценность каждого матча была необычайно высока, любое поражение (особенно с равным по силе соперником) могло стать роковым, когда речь шла о первом месте. Исключительно этим обстоятельством определялись стратегия и тактика команды в соревновании. Опытные игроки гарантировали надежность, безошибочность действий, особенно в обороне. Тактика игры на каждый матч требовала гибкости, с учётом состояния, прежде всего физического, каждого соперника.
За двадцать лет существования советского хоккея у наших спортсменов определился круг основных соперников, и в Европе это были команды Швеции и Чехословакии. С хоккеем более длительной истории, с достижениями (чемпионы мира) прошлых и недавних лет. В последнее пятилетие шведы затрудняли нам жизнь и в 1963-м, и в 1966-м годах, а сборная ЧССР все эти годы была одержима желанием, но так и не сподобилась победить русских с 1961 г. Бесспорно, и тренеры и игроки сборной СССР уважительно относились к этим своим весьма достойным соперникам. Но в глубине души, в сердце и в сознании у наших спортсменов доминировал примат хоккея Канады. Так что, на чемпионате в Вене решающей игрой за золото должен был стать матч СССР – Канада. И неважно, что к игре с нами канадцы подошли, потеряв одно очко в игре с Чехословакией. Они были полны решимости победить в оставшихся двух играх и, завоевав, наконец, чемпионское звание, вернуть стране кленового листа статус сильнейшей хоккейной державы. Ведь происходило это в год 100-летия Канады!
Наши тренеры были уверены в атлетическом (выносливость, сумма скоростей) превосходстве своих хоккеистов над канадцами. И этот компонент должен был стать решающим, сделав наше превосходство неотвратимым к середине, началу второй половины матча. Но для этого требовалось сохранить силы (их запас!) на всю протяженность игры. Решено было не начинать матч с неудержимого «силового давления», а отдать в этом инициативу канадцам. Они всегда стремятся вести борьбу в чужой зоне, генетически настроены на подавление соперника, особенно чужестранного, с первых минут. Даже, несмотря на неудобное для них ограничение силовой борьбы в чужой зоне по правилам МФХЛ. При подобной начальной уступке в инициативе важно, чтобы «защитники были свежи» (помните отчёт А.Тарасова по итогам чемпионата мира 1958 г.?) от первой до последней минуты матча. Такой расчет был верным и полностью оправдался.
Первый период был за канадцами, благодаря их ожидаемой инициативе в виде активного форчекинга, а также ряду «необязательных» удалений в нашей команде, в т.ч. 10-минутному штрафу обязанного быть «свежим» Э.Иванова. Восемь минут в меньшинстве привели «всего» к одному голу в наши ворота. После перерыва сборной СССР пришлось отыгрываться, и вот тут, она усилила игру за счёт повышения темпа в чужой зоне, как при владении шайбой, так и в борьбе за её возврат. Канадцы пытались успевать за нашими игроками, расходовали энергии больше привычного, и довольно быстро отдали инициативу. Б'ольшая часть событий во второй 20-минутке происходила в зоне сборной Канады. Наши игроки сделали 12 бросков по воротам, а канадцы только 2. Но гола всё не было, несмотря на огромные усилия – оборона под началом К.Брюера на поле и С.Мартина в рамке ворот была безупречна. Перелом произошёл фатально, гол, казалось, возник из ничего. Его называли «бабочкой», «фейком», «случайностью». Этот поспешный и обывательский взгляд, навязанный тренерами и игроками сб. Канады, а также заголовками канадской прессы, так и закрепился в истории данного эпизода. Однако детальное рассмотрение рождения этого гола говорит об обратном, и мы попробуем это сделать.
Звено Викулов – Полупанов - Фирсов боролось в зоне канадцев за вброшенную туда шайбу, а противник всячески пытался её оттуда выбросить или вывести. Это у него почти получилось, но Полупанов оттеснил канадца Хакка от выкатывающейся шайбы, и к ней первым успел Фирсов. Чтобы сохранить атаку, владея в зоне соперника шайбой, он повёл её вдоль синей линии. Навстречу Фирсову приближался один из канадцев – столкновение (и потеря контроля над шайбой) становились неизбежными. Рефлексы (позволяющие классному форварду избегать ненужной силовой борьбы) подсказали Фирсову, что с шайбой надо немедленно расстаться. Для чего, спросите вы!? Во-первых, для того, чтобы на противоходе легко объехать противника и лишить его шансов на силовой приём, а, во-вторых, чтобы шайбу не потерять. Да-да! Фирсов посылает её в боковой борт вдоль синей линии на свободное пространство. Канадец тормозит, и вынужден бежать в обратную сторону. А шайба ударяется о борт и катится обратно на поспевающего к ней первым одинокого Фирсова. У него хватает времени посмотреть в сторону ворот, и он видит выстроившихся один за другим 3-х канадцев, за которыми находится (4-м в этой колонне) С.Мартин. Фирсов бросает шайбу умышленно высоко в сторону ворот (конечно, он сознавал невероятность поражения ворот из такого положения). Попытка одного из защитников отбить с воздуха планирующую к воротам шайбу не удалась. Изменившая траекторию полёта она над плечом вратаря (Мартин увидел её только в этот момент) опускается в сетку ворот. Счёт сравнялся – 1:1. Читатель не поверит, но описанный здесь эпизод длился 7 (семь!) секунд. Фальшивка? Пустышка? Мотылёк? Посмотрите этот эпизод, только много раз, то останавливая, то запуская видеозапись. И вы поймёте величие этого игрока, этой команды, самой игры. (Форум хоккейных статистиков им. В.Малеванного)
Победный гол забили спартаковцы, и он получился в лучших традициях нашего хоккея и неудержимого «Спартака». Б.Майоров был одним из немногих советских форвардов, которым тренеры «разрешали» (рекомендовали) при обороне не заходить глубоко в собственную зону, а всё время передвигаться между защитниками атакующего противника у синей линии. Хорошие стартовая скорость и динамичное ускорение позволяли Майорову быстро уходить с такой позиции в отрыв, рассчитывая на острый пас из глубины своей зоны. Получалась убийственная контратака с вероятным выходом на одного вратаря. На 11 минуте третьего периода «свежий» защитник Э.Иванов из глубины своей зоны дал великолепный острый пас уже убегающему в сторону канадских ворот Майорову. Наш форвард несся к канадской зоне, где перед ним отступал, но пытался сблизиться защитник. Чуть сзади и левее за Майоровым мчался Старшинов, явно ожидая паса. Но капитан не стал пасовать назад и в сторону, замедляя тем острую атаку сходу. Он нанёс сильнейший удар по шайбе (1), и канадский вратарь С.Мартин с огромным трудом отбил её (2). Тут-то и настал миг Старшинова, который, продолжая движение на ворота, опередив соперников, добил (3) отражённую шайбу в сетку, установив победный счёт – 2 : 1.
Матч удался, наша победа в чемпионате, даже перед последним поединком со сборной ЧССР, была уже обеспечена. В той игре с Канадой были другие памятные и многократно упоминавшиеся нюансы (знаменитая травма Брюера, попытка оспорить второй гол из-за, якобы, офсайда Майорова и т.д.), но на них не стоит останавливаться. Следует лишь признать, что эта трудная, но убедительная (несмотря на минимальный счёт) победа, состоялась, прежде всего, благодаря реализации игроками безукоризненного тактического плана. Канадские газеты называли нашу победу бесспорной, а качество игры и характер борьбы достойными лучших матчей финалов Кубка Стэнли. Этой победой сборная СССР косвенно снова напомнила, что на «любительском» уровне хоккей Канады для неё уже решенная задача. (28.03.1967)
К моменту окончания этого чемпионата, проходивший в те же дни в Вене конгресс МФХЛ наделил Канаду (она третий год подряд подавала заявку) правом проведения мирового первенства 1970 года по хоккею. Впервые в истории страны - родины этой игры! (25.03.1967)
История Брюера на международной арене была яркой, но короткой (через пару лет он восстановил свой профессиональный статус и ещё поиграл в НХЛ не один сезон). Продолжение его карьеры в НХЛ, и сопутствующие ей события оказались из ряда вон выходящими для всей истории мирового хоккея и Советско-Канадских спортивных отношений. А начались эти события именно в 1967 году, когда на чемпионат мира в Вене прибыл тогда ещё малоизвестный по эту сторону океана Алан Иглсон. Дипломированный (юридический факультет Университета Торонто) адвокат, Иглсон был (с 1966 г.) членом законодательного собрания провинции Онтарио от консервативной партии уже в возрасте 33 лет. Одновременно он был юридическим советником ряда хоккеистов НХЛ (в том числе и Брюера, а чуть позднее самого Бобби Орра). В 1967 г. с помощью влиятельных ветеранов НХЛ Иглсон создал (воссоздал родившуюся и рухнувшую в 1959 г.) Ассоциацию игроков НХЛ (АИНХЛ, NHLPA – National Hockey League Players Association) – фактический профсоюз спортсменов этой лиги – и стал её первым исполнительным директором, и оставался им 25 лет. Именно Иглсон отвоёвывал (у «Торонто Мэйпл Лифс») право К.Брюера вернуть статус любителя для участия в чемпионате мира 1967 г., и преуспел в этом.
Четвертьвековой истории деятельности Алана Иглсона посвящена не одна нашумевшая публикация, и даже монографии, описывающие его взлёт и падение. Нас же этот персонаж интересует только в контексте зарождения и развития соревнования нашего хоккея с грандами Национальной хоккейной лиги, и мы в дальнейшем представим описание его роли в этом событии. В российской версии Википедии (по данным на 2018 г.) написано, в частности, следующее: «В статусе исполнительного директора ассоциации Иглсон выступил как главный инициатор проведения матчей между командами из НХЛ и Европы» (Иглсон, Алан — Википедия (wikipedia.org). Об остальных его «заслугах» мы позднее упомянем лишь вскользь.
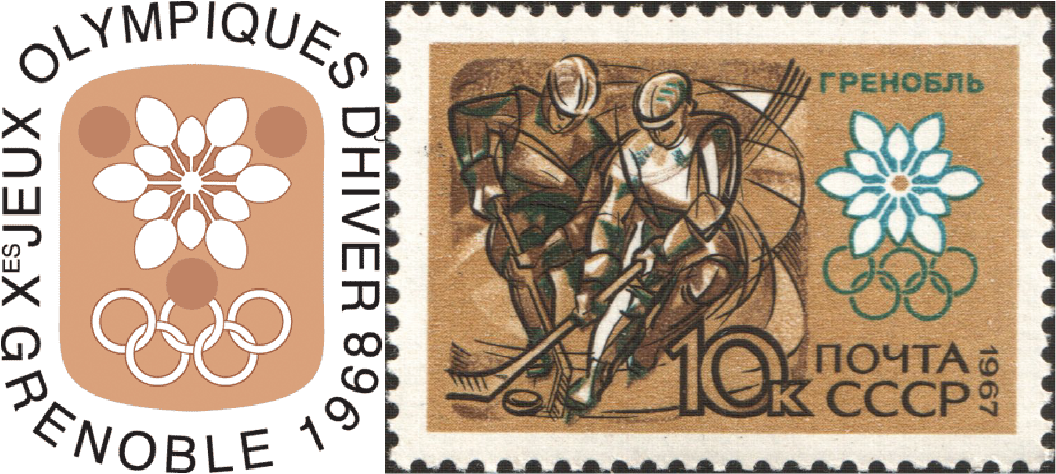
Олимпийский сезон 1968
К моменту окончания международного сезона 1966-67 гг. родина хоккея Канада уже 6 лет подряд не выигрывала чемпионаты мира. Предстояли очередные зимние Олимпийские игры (Гренобль), а в этих турнирах хоккеисты Канады не побеждали с 1952 г. Сборная СССР, готовясь к Олимпиаде, на январском турнире 1968 г. в Канаде взяла реванш за поражение в аналогичном прошлогоднему соревновании, дважды обыграв и опередив национальную сборную хозяев. Покидая Северную Америку, за день возвращения на Родину, сборная СССР в Оттаве проиграла сборной Канады 2 : 8. Не столько сам факт крупной победы, сколько стиль, в котором канадцы провели игру, воодушевил хоккейную общественность. По общему мнению, это была победа подлинно канадского стиля игры над «русской версией» хоккея с шайбой. (10.01.1968).
Состав нашей команды на Олимпиаду в Гренобль был почти оптимальным. Линия обороны несомненно усилилась за счет долгожданного привлечения В.Блинова – он, составив пару А.Рагулину, заменил славного, но заметно сдавшего в новом сезоне Э.Иванова. Лишь немного не согласовывалось с привычным форматом коллектива привлечение пятерки Е.Мишакова из ЦСКА. Это «боевое формирование», с оригинальной трактовкой игровых функций полевых игроков, являлось проводником одной из новаторских идей А.Тарасова. Отличающиеся высокоскоростными возможностями и обладающие большой выносливостью, игроки этой пятерки своей неустанной активностью обескураживали, подавляли и изматывали многих соперников. Тренер армейцев настоял на их включении в состав олимпийской команды, но по ходу турнира «пятерка» заметного вклада в трудную победу СССР на Олимпиаде не внесла. Получилось так, что эти спортсмены, находясь в предельном возрасте атлетической активности (28-29 лет), исполнили роль умеренных статистов, обеспечивающих в своих отрезках хотя бы равновесие в игре. Тарасов позднее признал это своё настойчивое решение ошибкой (личное сообщение, 1985).
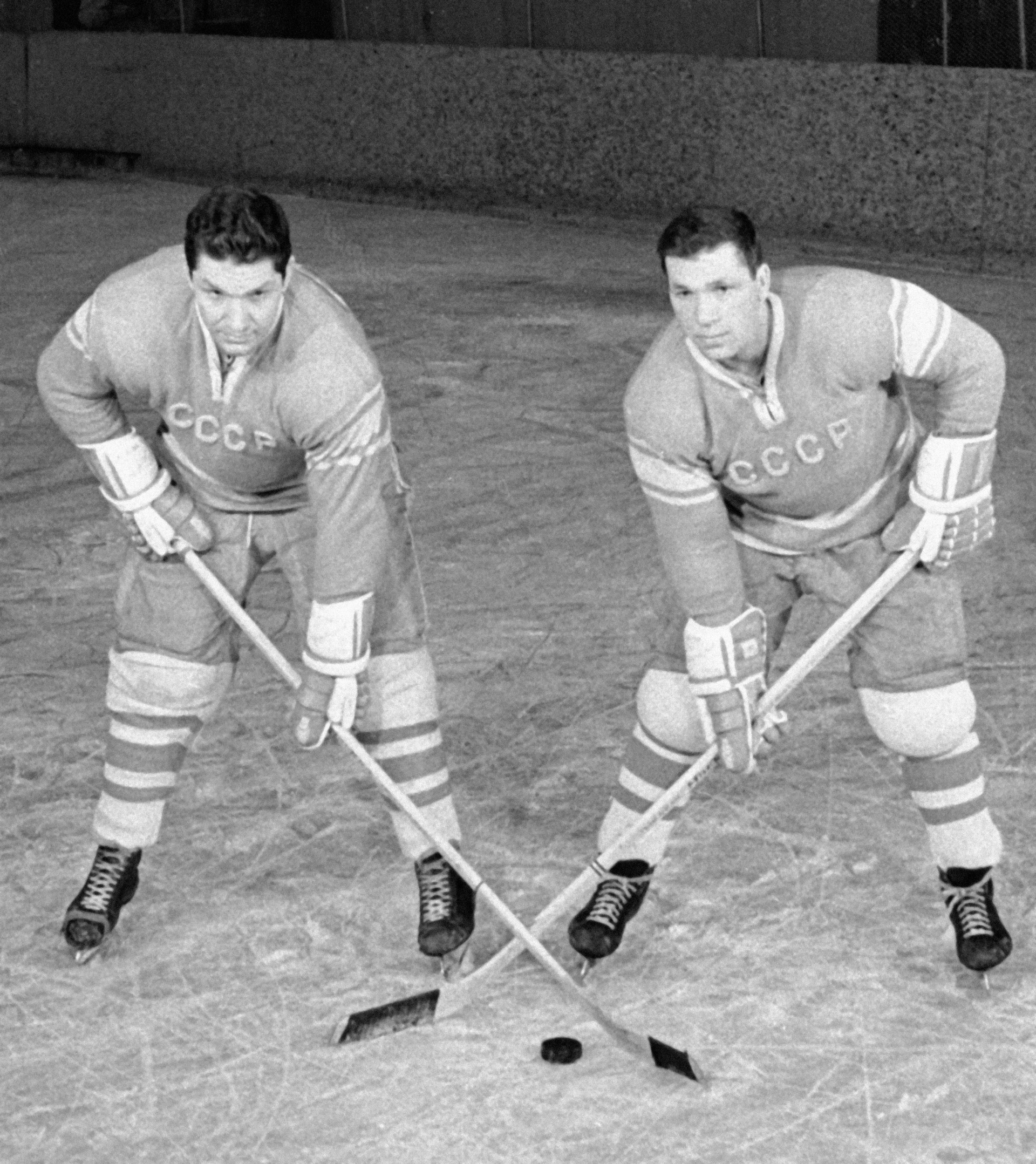
Заключительная встреча турнира СССР – Канада определяла чемпиона – перед матчем обе команды имели по одному поражению. Советская сборная не оставила канадцам ни малейших шансов, победив соперников со счетом 5:0, и снова завоевала золото Олимпиады. И опять Анатолий Тарасов во всеуслышание заявил о несоответствии уровня любительского хоккея Канады уровню развития этой игры в европейских странах (Швеция, ЧССР и, прежде всего, СССР). Хотя об этом больше всего рассуждали сами канадцы. Тяжесть очередного поражения усугублялась осознанием безнадежности дальнейших попыток победить русских силами и средствами подлинных хоккейных любителей. Главный творец этой идеи патер Дэвид Бауэр публично признал крушение его 4-летней программы: «Мне трудно представить, что станет в недалёком будущем с Олимпиадами? Посмотрите вокруг себя – в радиусе 100 миль здесь нет ни одного спортсмена-любителя!» Это откровение прозвучало в пресс-центре Гренобля на собрании всей канадской олимпийской спортивной делегации, которая пришла поддержать и поприветствовать своих огорченных хоккеистов. Но с лиц присутствующих уныние смахнуло как рукой, как только в микрофон заговорила хрупкая молодая леди по имени Нэнси Грин (Nancy Greene): «Да, мы проиграли этот матч, но мы не проиграли сражение». Эти слова принадлежали Олимпийской и мировой чемпионке по слалому-гиганту 1968 года, позднее, лучшей канадской спортсменке ХХ столетия. «Настало время распрощаться со старой олимпийской концепцией. Необходимо проводить открытые международные соревнования спортсменов. В них должны участвовать лучшие, независимо от того, любители они или профессионалы», - подвела черту 24-летняя Нэнси Грин.


Конечно, постоянные поражения канадской сборной от советских хоккеистов были обидными. Но канадских болельщиков утешало осознание того, что лучшие хоккеисты СССР 11 месяцев в году занимаются только хоккеем. И на этом фоне настоящие студенты Университета Британской Колумбии, оказывавшие достойное сопротивление чемпионам мира, выглядели почти героями, хотя вот уже пять лет подряд не могли выиграть чемпионат мира.
А ещё больше канадцев успокаивало то, что лучшие хоккеисты страны, мастера НХЛ не имели доступа на международную арену. Профессиональный статус был серьёзным препятствием к соревнованиям с «любителями» (точнее, существовало табу на встречи с профессионалами для любителей). По умолчанию, и в СССР специалисты хоккея понимали, что наши мастера - подлинные профессионалы. Правда гонорары их меркли в сравнении с заработками даже не звезд НХЛ, но такова была социалистическая экономика, где труд материально оценивался не по достижениям и вкладу, а по уравнительному ранжиру. В такой обстановке к началу 1969 г. у канадского хоккея на международной арене сформировалась новая сверхзадача – выиграть во что бы то ни стало чемпионат мира 1970 года (Монреаль, Виннипег).
В июне 1968 г. новым «министром спорта» в СССР был назначен Сергей Павлов, хорошо знакомый Тарасову по работе первым секретарем ЦК ВЛКСМ и помогавший ему (с весны 1964 г.) в создании Всесоюзного школьного хоккейного соревнования «Золотая шайба». Тем же летом в Канаде к власти пришла либеральная партия и сформировала во главе с Премьер-министром Пьером-Элиотом Трюдо новое правительство, которое немедленно заявило о своей обеспокоенности падением мирового престижа канадского хоккея. В этой связи в августе 1968 г. правительством была сформирована так называемая Оперативная Группа (Task Force, ОГ) по спорту (во главе с министром здравоохранения и социального обеспечения Джоном Мунро) для всесторонней оценки развития спортивных дисциплин (прежде всего хоккея) в Канаде, их значения для развития общества и положения на международной арене. Особое внимание в работе комиссии уделялось выработке рекомендаций и мер, способствующих победе сборной Канады на хоккейном чемпионате мира 1970 года у себя на родине (Монреаль и Виннипег).
На московском международном хоккейном турнире в начале декабря 1968 сборная Канада потерпела ряд унизительных поражений от обеих сборных команд СССР (+ ничья с Финляндией). Этот месяц, типичный (турнир «Известий», турне по Канаде/Северной Америке) для каждого международного сезона нашей команды можно во многом считать переломным в истории советско-канадских хоккейных отношений. По целому ряду обстоятельств.
Во-первых, заметно обновился и омолодился состав нашей команды. В нём прочно закрепились игроки нового поколения: Лутченко, Поладьев, Михайлов, Петров, Харламов, А.Якушев, Мальцев, Шадрин, Зимин. Их игра стала полным откровением для руководства канадской делегации, посетившей Москву. Автор этих строк хорошо помнит дебют Михайлова, Петрова и Харламова в составе СССР-2 в первом матче против Канады (они забили все 4 гола). В третьем периоде, находясь за воротами нашей команды (стоя у сетки, тогда ещё не было пластиковых заграждений по лицевой линии бортов), я слышал, как в момент паузы (канадцы вели в счёте 3:2) Харламов и Михайлов говорили Петрову: «Овладел шайбой у борта, сразу старайся верхом выбросить её подальше в среднюю зону. Мы, кто к ней будет ближе, убежим, обгоним защитников и овладеем её». Оба решающих победных гола в последней 10-минутке были забиты нашими крайними нападающими в скоростной контратаке, при выходе один на один с вратарём. Канадцы проиграли нашей команде в Москве ещё 3 матча (0:6, 1:8, 0:4), и старший тренер Дж.Маклеод не скрывал восхищения игрой советской команды. «Клянусь, я никогда не видел такой сильной команды. В индивидуальном плане русские, вероятно, уступают игрокам НХЛ, но в командных действиях это великий коллектив. Они никогда не производили такого впечатления, как в этом году». Отметив высокий уровень подготовки советских игроков, Маклеод заметил: «При нашем укладе жизни просто невозможно достигнуть подобного уровня готовности спортсменов, как у русских. Канадские любители не могут себе позволить тренироваться и играть 11 месяцев в году. Даже профессионалы не смирились бы с такой длительной самодисциплиной».
Налицо был качественный скачок в усилении игры сборной СССР.
Ещё дальше в своих оценках этих игр пошёл исполнительный директор КЛХА (САНА) Гордон Джакс (G.Juckes). Он заявил, что советские тренеры А.Тарасов и А.Чернышев готовы посетить Канаду в следующем году в качестве советников по подготовке национальной сборной (06.12.1968), но это требует подтверждения обеих национальных федераций. «Русские покажут нам, как они, в отличие от нас, тренируют своих хоккеистов, добиваясь таких великолепных физических кондиций. Мало в наше время научить мальчишку играть в хоккей. Необходимо подготовить его тело к максимальным нагрузкам путём работы с отягощениями и использования специальных физических упражнений, как это делают русские». Именно эти откровения авторитетного администратора КЛХА вызвали шквал возмущения в определённых кругах хоккея Канады.
И здесь мы подходим к знакомству с очень значительной и, во многом, противоречивой фигурой в истории канадского хоккея, да и всего спорта Канады. Это господин Ллойд Персиваль, автор знаменитой и давней книги «Хоккей» (издательство Физкультура и спорт, 1957), которая в оригинальном канадском варианте называлась «The Hockey Handbook» (Учебник хоккея) и вышла в свет в 1951 г. Сначала о реакции Л.Персиваля на заявление Гордона Джакса (см. выше), получившей отражение в ряде канадских газет под заголовком (в одной из них) «Величайшее оскорбление всех времен». Персиваль, являясь в то время директором созданного им Института Фитнесса (в привычной отечественной спортивной терминологии «Институт Атлетизма»), писал: «Русские тренеры, предложившие научить канадцев играть в хоккей, будут использовать мои методики, которые были опубликованы в СССР 10 лет назад. Это величайшее оскорбление всех времён, особенно для меня. Нет ни одного русского специалиста, который бы знал лучше меня, как достигать высокой спортивной формы команды» (выделено автором, см. ниже). При этом канадец сослался именно на свою фундаментальную книгу 1951 г. издания, которая появилась в русском переводе только в 1957 г. (см. выше)
«Русские ничего не делают такого, чего бы мы не знали и не умели. Но надо отдать им должное. Они начали системное развитие спорта в стране на государственном уровне в начале 50-х годов. Была проделана огромная работа по поиску и изучению новейших методик развития спорта, не только хоккея. В советской спортивной литературе была использована и моя книга Hockey Handbook, о которой мне в 1955 г. написал Директор Центрального института физической культуры СССР Николай Озолин. Он предлагал мне установить с ними научное сотрудничество и обмен». (10.12.1968)
Персиваль был известен своей стране своими радиопередачами (на СВС с 1944 по 1964 гг.) для молодёжи об атлетизме и фитнес-тренированности. Но для задач командной хоккейной практики в Канаде он был востребован лишь однажды. В 1958 году его попросили разработать атлетическую программу тренировок для «Whitby Dunlops», которую он в течение 6 недель реализовывал, работая с командой. Непосредственно перед отбытием на чемпионат мира в Европу и даже на корабле во время трансатлантического плавания. Правда, по его «лекалам» готовил команду «Детройт Ред Уингс», начиная с 1950 г., генеральный менеджер Джек Адамс. Звёзды той команды – Г.Хоу, Р.Келли и Т.Сочак – высоко оценили вклад Персиваля в их индивидуальное совершенствование.
Своё многогранное тренерское искусство Л.Персиваль самостоятельно развивал в себе, занимаясь с юности различными видами спорта (бокс, теннис, крикет, хоккей), и изучая и выполняя тренерскую практику в американском футболе, лёгкой атлетике и хоккее. Стремясь стать универсальным тренером на основе совершенных знаний физиологии организма, он до начала II Мировой войны обучался в Лондоне (Loughborough University, London - School of Sport, Exercise and Health Sciences. Этот университет до настоящего времени считается лучшим в мире образовательным учреждением по проблемам спорта), Берлине и Праге. Очень успешно (но недолго) тренировал хоккейные команды игроков школьного возраста в Торонто, вступив однажды в конфликт с самим Конном Смайтом, но уже в послевоенное время предпочитал индивидуальные тренировочные занятия с представителями самых разных видов спорта. К таким занятиям с ним прибегали звёзды НХЛ Горди Хоу, Терри Сочак, Тед Линдсей, Фрэнк Маховлич и другие. И всё же, главным делом жизни для него оставался его Институт Фитнесса. Изучая многие годы тренерское дело, Персиваль сформулировал фундаментальные понятия этой профессии, основанные на глубоких знаниях спортивной физиологии и психологии. Они верно служили ему в сущностном понимании канонов различных видов спорта, в том числе спортивных игр.
Рассуждая о природе превосходства советских хоккеистов, Персиваль в конце 1968 г. отмечал: «В подготовке и игре русских нет никакой секретной формулы. Они строят свою игру в первую очередь на главном – катании и контроле шайбы. Их план заключается в контроле над шайбой в течение 70% игрового времени. Добиваются они этого благодаря быстрому, ловкому и выносливому катанию. Если они теряют шайбу, то настойчиво продолжают борьбу за неё и не разочарованы тем, что эта попытка обыграть соперника оказалась неудачной. Каждую минуту своих действий они используют с максимальной отдачей, выполняя их в предельно высоком темпе, более высоком, чем соперник. Вот как Тарасов собирается побеждать клубы НХЛ! Именно так он сможет уравновесить игроков уровня Б.Халла, вынуждая их действовать с запредельной нагрузкой, влекущей за собой непривычно раннюю утомляемость, требующую более быстрой замены на поле. В канадском хоккее главным остается традиционный игровой стиль. Ничего не изменилось в отношении канадцев к тренировочному процессу и подготовке игроков с 20-х годов. И только сейчас национальная команда понимает, что именно в этом ключ русских к успеху. Тарасов может успешно возглавить любую команду НХЛ, поскольку использует основополагающие принципы спортивной физиологии и психологии. В клубах профессиональных лиг американского футбола США (NFL и AFL) много «Тарасовых», делающих главный акцент на умственной и физической подготовке спортсменов. Если в канадском хоккее отношение к тренировочному процессу не изменится, мы будем отставать всё больше и больше». (10.12.1968).

Таким был личный взгляд незаурядного спортивного физиолога и тренера на проблему советско-канадского хоккейного противостояния. Оценивать эти интересные, но не бесспорные суждения, не входит в задачу нашего скромного повествования. Однако, мы ещё не раз будем возвращаться к компетентному мнению Ллойда Персиваля по мере дальнейшего описания соревновательных отношений Канады и СССР. И, возможно, позволим себе ряд дискуссионных комментариев.
Но здесь снова приходится делать отступление от хронологического порядка изложения нашего материала. В последние 5-6 лет в зарубежной спортивной периодике, особенно в канадской, появились (и даже обострились) комментарии, касающиеся сознательного умалчивания о влиянии теории Ллойда Персиваля на формирование концептуальных тренерских взглядов А.Тарасова. Будто бы все идеи и тренерская философия Тарасова целиком заимствованы у канадского специалиста. Не могли здесь не добавить своей лживой порции яда некоторые ветераны отечественной спортивной журналистики, несмотря на своё почётное лауреатство в МФХЛ (IIHF). В качестве доказательства в зарубежной прессе приводится мифическая версия о том, что канадский хоккеист украинского происхождения Стэн Ободяк (игравший за «Lethbridge Maple Leafs» на чемпионате мира 1951 г. в Париже) передал Тарасову экземпляр книги Л.Персиваля «Hockey Handbook», изданной в 1951 г. Когда выяснилось, что Тарасов не был на парижском чемпионате, возникла «усовершенствованная» версия с участием тех же персонажей. Она уже относилась к 1953 г., когда С.Ободяк работал в клубе SC Zurich (Швейцария) играющим тренером. И, конечно же, его встреча с Тарасовы «стала неизбежной», поскольку тренер из СССР присутствовал на чемпионате мира в Швейцарии в качестве наблюдателя. (в своих подробных мемуарах о 50-летней истории Maple Leaf Gardens (1981) С.Ободяк, описывая свою жизнь в хоккее, ни разу не упоминает о встрече с А.Тарасовым). А книга Л.Персиваля, якобы привезенная А.Тарасовым в СССР, была переведена на русский язык и вышла в свет, правда, только в 1957 г. При упоминании подобных «фактов» невозможно избежать иронии и сарказма.
Эта фантастическая история скорее всего принадлежит Гэри Моссману (Gary Mossman), автору книги о Л.Персивале («Lloyd Percival: Coach and Visionary», 2013). Хотя изложена она была им не в книге, а только в интервью, данном в связи с изданием его монографии. Есть масса доводов о её бездоказательности, но мы предлагаем читателю только один из них – собственную книгу А.Тарасова «Хоккей с шайбой» издания 1950 г.(!) (Издательство Вооруженных сил СССР). Тот, кто хоть мало-мальски знаком с правилами офсетной печати (особенно советской послевоенной), поймёт, что материал Тарасова (машинописный текст + многочисленные иллюстрации), чтобы быть изготовленным в виде книги, должен был подаваться в типографию не позднее середины 1949 г.
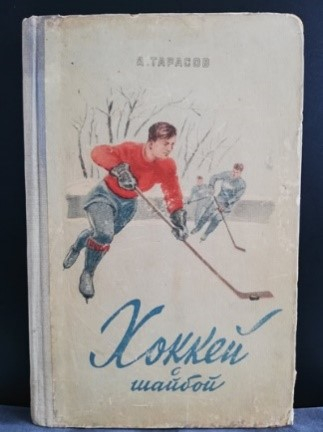
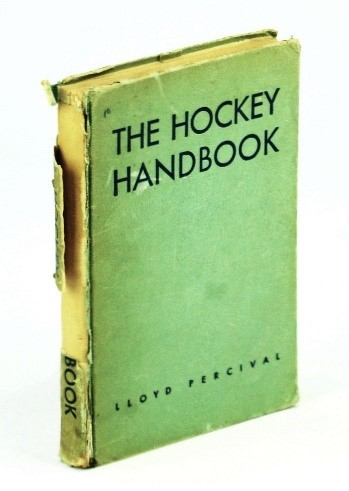
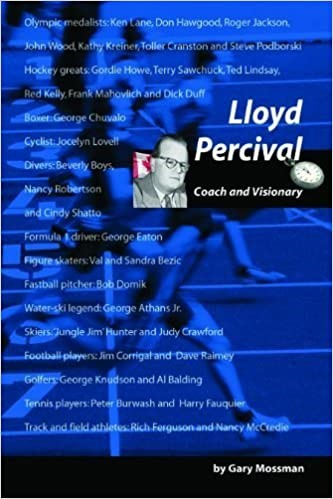
Тарасов и Персиваль были, не могли не быть, знакомы! Их обоюдное уважение не вызывало сомнения и многократно было отражено в печати, выступлениях и монографиях обоих. Детали их общения станут предметом отдельного упоминания в нашем дальнейшем повествовании.
По возвращении с московского турнира на родину сборная Канады столкнулась с проблемами финансирования на 1969 г. Из-за этого под угрозой срыва оказался визит в Канаду сборных ЧССР и СССР, предполагавшийся перед Новым годом. Президент Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации (КЛХА/CAHA) Эрл Досон (Earl Dawson) всеми средствами добивался поддержки в этом вопросе министра Дж. Мунро. Президент, обсуждая проблему финансирования, в частности, провокационно заявил о серьезном изучении «интригующего предложения русских тренеров Тарасова и Чернышева» оказать содействие в подготовке сборной Канады к чемпионату мира 1969 г., что и вызвало у многих реакцию негодования (см. выше).
Другим важнейшим, уже государственно-административным фактором происходящего перелома в отношении Канады к своему любимому детищу, стала позиция Оперативной Группы. Завершая свою работу (во второй половине декабря), она констатировала значительное и нарастающее отставание уровня игры сборной Канады от европейских команд, и в первую очередь от СССР. Министр Джон Мунро сформулировал ряд государственных инициатив и наметил перечень мер, требуемых для прогресса и высоких достижений канадского хоккея на международной арене. Они были рекомендованы как руководство к действию для Правительства. Одним из важнейших условий стало бюджетное финансирование и создание детских хоккейных школ в Канаде. Главным доводом в пользу этого был русский пример общественного движения «Золотая шайба», предложенного и руководимого в СССР А.В.Тарасовым под протекторатом ЦК ВЛКСМ и охватившего за 4 года около 1 миллиона школьников. Вторым требованием и условием прогресса, выдвигаемым Оперативной Группой, стала легализация участия в международных турнирах (включая ежегодные чемпионаты мира) профессиональных игроков из Канады.
1 января 1969 г. канадское книжное издательство Griffin House выпустило в свет книгу Анатолия Тарасова «Путь к Олимпу» (Road to Olympus, by Anatoli Tarasov; 1st Edition, January 1, 1969). Впервые в мировой истории печатных изданий о хоккее на английском языке была опубликована книга советского специалиста.
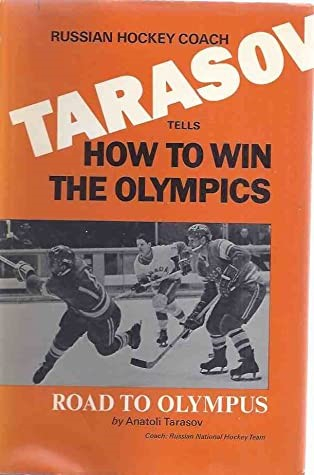
Ограничившись упоминанием этого факта, добавим лишь, что более 50 лет многочисленные научные, медийные, сетевые и всевозможные иные публикации о хоккее ссылались и до настоящего времени продолжают ссылаться на этот фундаментальный труд.
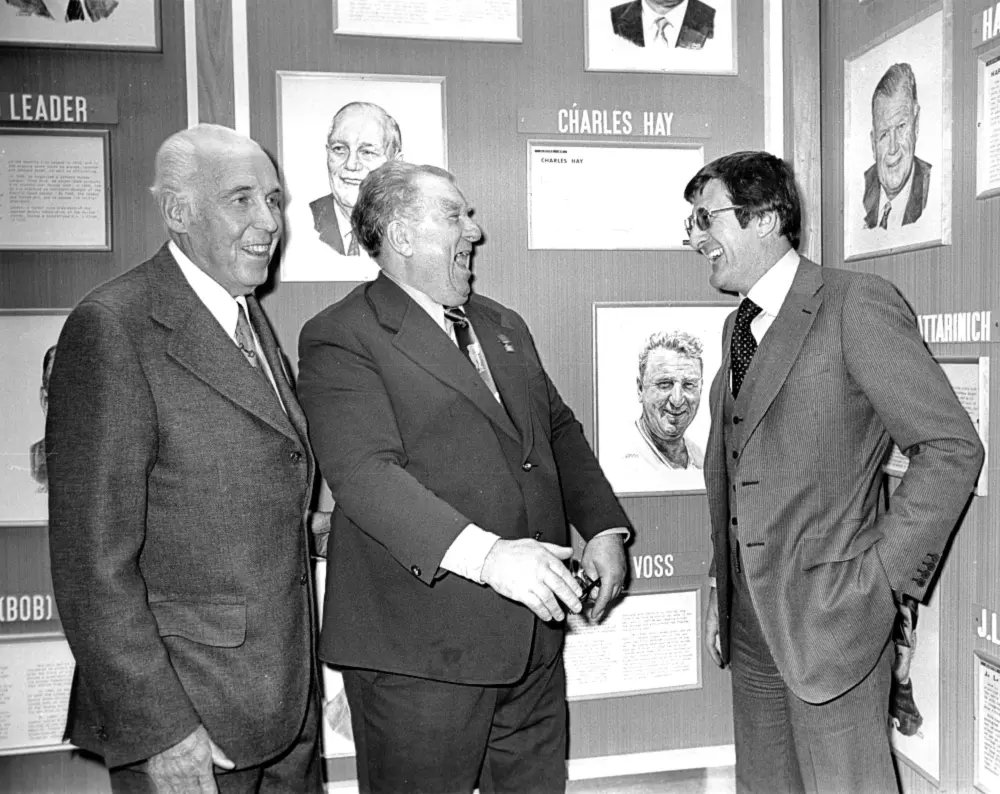
«Если бы знать, если бы знать!»
В январе 1969 г. заметно обновленная после гренобльской Олимпиады молодыми новобранцами сборная команда СССР готовилась к традиционному турне по Канаде. Помимо проволочек с его финансированием со стороны канадцев, в ходе согласования расписания поездки между сторонами возникли обоюдные недопонимания и размолвки. Канада и СССР по-разному трактовали условия проведения турне. Советская хоккейная федерация, следуя настойчивым требованиям Чернышева и Тарасова, пыталась добиться от Канадской любительской хоккейной ассоциации (КЛХА) гарантий проведения хотя бы одной встречи сборной СССР с каким-то из клубов НХЛ. Анатолий Тарасов со страниц газеты «Известия» (официального органа печати Верховного Совета СССР) заявил о нежелании сборной СССР играть с командами второго сорта. Такой выпад произошел ещё и потому, что к моменту начала турне советской команды обе основные сборные (Восточная и Западная) Канады должны были находиться за рубежом (в США и Европе). Иными словами, на канадской земле сборную СССР в турне ожидали откровенно слабые соперники. Но гораздо более нетерпимой для канадской общественности в этой публикации стала беспощадная ирония тарасовского заголовка – «Гордость или трусость?». Данный вопрос относился к безучастной реакции НХЛ на неоднократные призывы советского тренера дать согласие на игры со сборной СССР.
Этот выпад А.Тарасова моментально был растиражирован (агентством Reuters) в канадской прессе, на что последовали многочисленные как спокойные, так и негодующие комментарии хоккейных экспертов под одинаковым в разных изданиях заголовком – «Русские возобновляют свой вызов». Подчеркивалось неуёмное стремление русского тренера вынудить профессионалов Канады доказать своё превосходство над хоккеем остального мира делом, а не декларациями. «Мы заверяем вас, что наши парни у любого противника отобьют охоту играть с нами грубо и запугивать нас» - а этот тезис Тарасова был воспринят многими почти как устрашающий.
Возникла реальная угроза срыва поездки команды СССР в Канаду. Стороны обменивались взаимными обвинениями, в которых участвовали хоккейные администраторы, дипломаты, журналисты. Наконец, после длительных и путаных согласований расписание визита было утверждено, и выезд советских хоккеистов состоялся. Но, из-за трудностей с подбором рейсов для перелета через океан, делегация из СССР опоздала в Канаду на два дня. По этой причине первый матч со сборной Канады в Монреале сорвался. Необходимость изменения расписания игр возникла заново. Возмущенный случившимся владелец стадиона «Форум» и президент клуба «Монреаль Канадиенс» Дэвид Молсон (David Molson) отказался переносить этот матч на другую дату и запретил предоставлять арену своего клуба сборной СССР в течение всего турне. Он также заявил, что «ухищрения русских» сильно подорвали его веру в необходимость встреч команд НХЛ с хоккеистами Советского Союза, на которые он рассчитывал уже в 1971 г. Однако, вопреки этим заявлениям, Молсон экстренно создал рабочую киногруппу, которой было поручено снимать фильм об игре сборной СССР в ходе всего канадского турне. «Коль скоро встречи с ними неизбежны, мы должны хорошо знать, как они играют в хоккей». Тем временем сборная СССР блистательно провела и завершила это турне по Канаде, победив (в ряде встреч разгромно: например, в одном из этих матчей 23.01.1969 г. уже к 38 минуте счет был 10:0 в пользу советской команды – см. ниже) национальную сборную во всех восьми сыгранных матчах (за месяц до турне те же канадцы были трижды разгромлены в Москве).
Все игры прошли с аншлагом - в Торонто и Ванкувере по 15.000, в Оттаве и Виннипеге по 10.000 зрителей. Министр Джон Мунро, непосредственно отвечающий в Правительстве Канады за состояние хоккея в стране, был гостем как раз на той разгромной встрече СССР – Канада (10:2) в столице Оттаве. После матча на приёме с участием представителей Посольства СССР гости сделали министру скромный подарок. Они преподнесли сувенирную клюшку, на которой были выгравированы годы побед (1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968) и автографы многих советских чемпионов мира по хоккею. «Сегодня мне немного больно при мысли о том, что Канада теперь уже была лидером и законодателем в международном хоккее. Глядя на эти подписи, я думаю, что было бы лучше видеть их на контрактах наших клубов» (!). (25.01.1969)
Канадская печать, да и многие специалисты хоккея этой страны, находясь под впечатлением от итогов выступления советской сборной, в один голос заговорили о необходимости состязания клубов НХЛ с командой СССР.
Газетная полемика, предшествовавшая турне, не прошла бесследно. Президент НХЛ К.Кэмпбелл 21 января 1969 г. был вынужден под давлением общественности доложить на ближайшем заседании Совета директоров НХЛ (BOG) о резко возросшем интересе Правительства Канады и общественности к возможным встречам хоккеистов НХЛ со сборной СССР. Однако Совет (под председательством Билла Уортца – бизнес партнёра и преемника Джеймса Норриса) заявил, что в ближайшее время вопросы проведения таких соревнований хозяевами клубов рассматриваться не будут. В частности, потому, что канадское Министерство здравоохранения и социального обеспечения (Министр Джон Мунро) ранее обратилось к BOG (Совет Директоров) NHL с просьбой не рассматривать этот вопрос до завершения чемпионата мира по хоккею 1970 г.
Резюмирующий комментарий Кларенс Кэмпбелл дал целому ряду издательств 24 января. Произошло это на пресс-конференции после церемонии открытия новой спортивной арены на 15,5 тысяч мест в Ванкувере, готовящемся влиться в НХЛ в 1970 г. Сборная СССР за два дня до этого именно там разгромила канадцев 7:0. Президент НХЛ заявил буквально следующее: «Мы не собираемся вливаться в бизнес международного хоккея, покуда на этой сцене фигурирует КЛХА (САНА). КЛХА всегда была нашим партнёром, и мы не стремимся хоть как-то пошатнуть её престиж. НХЛ никогда не получала обращения по вопросу о том, что русские хотят соревноваться с её сборной командой, или с каким-либо клубом». Тем не менее, он заметил, что перспектива серии встреч русских хоккеистов с представителями НХЛ прояснится в ближайшее время. Он также сообщил, что КЛХА вскоре обнародует предложение к МФХЛ «проводить так называемые чемпионаты мира по хоккею на общедоступной для всех, открытой основе». «Однако, у нас нет желания присоединяться к МФХЛ. Наша первейшая обязанность – успешно вести свой собственный бизнес». (25.01.1969)
Здесь необходимо вкратце рассмотреть портрет третьего по счёту и по сей день самого долговременного (1946-1977) Президента НХЛ Кларенса С. Кэмпбелла. Получив юридическое образование в Университете Альберты, молодой Кэмпбелл продолжил и завершил его уже в Оксфорде (Англия). Несколько лет занимал административные должности в КЛХА, а затем, поработав судьей в НХЛ, был приглашён в главный офис лиги самим Фрэнком Колдером (Frank Colder, первый президент НХЛ). Но в 1940 году он отправился в Европу на II Мировую Войну, и заканчивал её уже в звании подполковника. До 1946 года трудился в канадской части Комиссии по расследованию нацистских преступлений. Вернувшись на родину, он вскоре возглавил (Президент) НХЛ. В период его более чем 30-летнего правления НХЛ прошла через беспрецедентные преобразования и испытания, важнейшим из которых следует считать начало новой эры развития мирового хоккея в 1972 году.
Главной задачей «любительской» сборной Канады на тот момент была, безусловно, победа в чемпионате мира по хоккею у себя на Родине. Даже предстоящее ближайшее (март 1969 г.) мировое первенство (перенесенное в Стокгольм из «оккупированной» Праги) было для Канады проходным турниром на пути к этой цели. Федеральное правительство Канады по итогам работы ОГ объявило 21 февраля 1969 г. о создании совместно с деловыми кругами страны организации «Хоккей Канады» (ХК). Главной её задачей было осуществление всех мер для максимального усиления сборной Канады и её победы в мировом первенстве 1970 г. На ХК полностью возлагались организация участия и контроль выступлений сборной команды Канады на международной арене с осени 1969 г. Президентом ХК был назначен один из крупнейших медийных магнатов Канады Макс Белл (из Калгари). В Совет управления ХК вошли, в частности, известный хоккейный менеджер Хэп Эммс, уже знакомые нам хозяева «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» Дэвид Молсон и Стаффорд Смайт. Ответственным в ХК по связям с общественностью был избран глава Ассоциации игроков НХЛ (фактического профсоюза спортсменов этой лиги), наш знакомый юрист из Торонто Алан Иглсон (Alan Eagleson). Все они пребывали в статусе Директоров ХК (см. выше).
Многие руководители и функционеры канадского хоккея (как любительского, так и особенно профессионального) были раздражены получившим широкую огласку вызовом Анатолия Тарасова («Гордость или трусость?»). Вместе с тем, на родине хоккея лишь единицы знали и понимали, что непрерывно растущая сила советского хоккея обусловлена, прежде всего, новаторским подходом русских тренеров в создании стиля игры, принципиально отличного от канадского. Тарасов со своим соратником А.Чернышевым подготовили и привлекли в состав сборной большую группу молодых и очень талантливых хоккеистов. Они демонстрировали новый тип хоккея, дерзко и убедительно сокрушая любых соперников, не взирая на авторитеты. Именно поэтому рядом руководителей спорта и хоккея Канады «фактор Тарасова» всё более явственно воспринимался главной угрозой для победы канадской сборной в домашнем чемпионате мира 1970 г. (16.01.1969)
После завершения описанного выше турне (январь 1969), но еще находясь в Канаде, Анатолий Тарасов в ответ на просьбу редакции авторитетной «The Montreal Gazette» дал обещание в недалёком будущем опубликовать на её страницах своё видение состояния и развития советско-канадских хоккейных отношений.
Перед самым началом очередного ЧМ (март 1969 г.) Алан Иглсон в статусе Директора ХК (являясь при этом главой Ассоциации игроков НХЛ) готовился к поездке в столицу Швеции. Там он должен был представлять Канаду в качестве официального переговорщика со штабом МФХЛ. Его главной задачей было получение согласия Конгресса международной федерации на легитимное включение (временное) в состав сборной Канады-70 максимально возможного числа профессиональных хоккеистов. Тем более что стартующий в Стокгольме хоккейный чемпионат уже (впервые, после многолетнего канадского лоббирования) проводился МФХЛ почти в полном соответствии с правилами, действующими в НХЛ (силовая борьба по всему полю, но в рамках европейских размеров площадки).
Наблюдая за развитием международного хоккея с осени 1966 г., Иглсон не мог не обратить внимания на успехи сборной СССР в соперничестве с командами Канады. Естественно, что бросались в глаза растущие популярность и активность русского тренера А.Тарасова, который использовал каждый визит в Канаду, чтобы настойчиво добиваться права хоккеистов СССР соревноваться с командами НХЛ. Уже опытный импресарио и антрепренёр Иглсон уловил в рисуемой Тарасовым картине и объективно складывающихся обстоятельствах сильный «запах денег», которые сулило небывалое историческое сражение. Опираясь на своё влиятельное государственное (ХК) и профессионально-корпоративное (АИНХЛ) положение, А.Иглсон взялся за дело. При этом он прекрасно понимал, что заметно отстаёт и уступает этому неуёмному русскому тренеру Тарасову в деле глобальной агитации хоккейной общественности за соревнование сильнейших в мире профессионалов и любителей хоккея с шайбой.
Накануне отъезда А.Иглсон посетил министра Д.Мунро. Руководитель профсоюза игроков НХЛ напомнил ему об одержимом и упорном стремлении сборной СССР (особенно А.Тарасова) официально соревноваться с лучшими профессиональными командами Канады. Ссылаясь на дерзкие, воспринимаемые «оскорбительными» выпады (в советской прессе) Тарасова в адрес НХЛ, его регулярные выступления в канадской прессе, Иглсон подчеркнул особо исключительное влияние этого тренера на победную игру советских хоккеистов. Согласившись, что факт возможных соревнований хоккеистов СССР с игроками НХЛ вызывал несомненный спортивный интерес у канадской общественности, Министр подчеркнул несвоевременность обсуждения этого вопроса в период подготовки к чемпионату мира 1970 г. Требовалось сосредоточить всё внимание на максимальном усилении национальной сборной для обязательной победы в грядущем мировом первенстве. Во время беседы обсуждались также и возможности усложнения соревновательных условий для русских на чемпионате мира. Не удивительно, что более чем за год до проведения мирового первенства на канадской земле спортивно-политические круги страны-организатора озаботились поиском в советской спортивной номенклатуре оппозиционных Тарасову сил. Один из атташе канадского посольства в Москве, в частности, предложил ориентироваться на официального представителя федерации хоккея СССР на ЧМ в Стокгольме Андрея Старовойтова. Работниками канадского посольства сообщалось, что г-н Старовойтов был уволен (по возрасту) из отдела хоккея ЦСКА перед сезоном 1968 г., не получив поддержки от начальника хоккейного клуба ЦСКА (А.Тарасов). В лагере советской делегации на ЧМ-69 у Иглсона в лице Старовойтова появился конкретный объект для перспективной «разработки».
Помимо задачи, которую Иглсон должен был решать в Стокгольме в интересах ХК, он в порядке личной инициативы, но с согласия КЛХА, предложил Дж.Ахерну провести переговоры о будущих встречах европейских любителей и профи НХЛ в отдельном формате. Узнав от КЛХА о таком намерении, Президент МФХЛ ответил отказом. «Я знал манеру напыщенного «хозяина любительского хоккея», желавшего иметь дело только с владельцами клубов НХЛ и не склонного тратить время на какого-то хитреца-клерка», - вспоминает А. Иглсон.
Канадец очень красочно описывает своё знакомство и первую встречу с Дж.Ахерном в Стокгольме. «Вы напрасно тратите своё время. Мне нечего с Вами обсуждать, потому что я уже обо всём поговорил с господами Кэмпбеллом, Молсоном и Смайтом более месяца назад», - сказал Ахерн. «Когда я объяснил ему, что вышеназванные джентльмены не в силах заставить выступать вместе Б.Халла, Ф.Эспозито и Г.Хоу, которые действуют только по согласованию с АИНХЛ, Ахерн моментально приступил к переговорам со мной», - продолжает вспоминать Иглсон. В Стокгольме они встречались не единожды. У Ахерна способность чувствовать «запах денег» оказалась ничуть не хуже, чем у Иглсона. Последний, естественно, опускает в своих воспоминаниях детали и различные аспекты переговоров, особенно финансовые. Однако, вскоре (после 54-го Конгресса в Гран-сюр-Сьерр, Швейцария) МФХЛ осуществляет ряд кадровых и административных решений, в которых чувствуется «влияние и интересы ХК». Канада получает право использовать в своём составе на ЧМ-1970 профессионалов (9 игроков, но не НХЛ). Оценивая итоги своего визита в Стокгольм, А.Иглсон резюмирует: «Г-н Ахерн заслуживает большой похвалы. Он объединяет большие силы, и, я думаю, он весьма заинтересован в организации соревнований между любителями и профессионалами. Но он достаточно хитёр, и будет откладывать и откладывать наступление этого момента. И постарается затягивать начало такого соревнования как можно дольше, поскольку, как он признался, сборная звёзд НХЛ в лучшем составе и при должной подготовке обыграет какую угодно команду любителей». Помимо переговоров с Ахерном, директор ХК встречался с представителями хоккейных федераций Швеции, Чехословакии и СССР.
А.Старовойтов был известным в мировом хоккее судьей международной категории, но к 1967 г., в соответствии с возрастными нормами МФХЛ, завершил свою карьеру активного полевого хоккейного судьи. Его регулярные (в течение сезона неоднократные) выезды за границу прекратились. Наряду с этим, достигнув в 1965 г. 50-летнего возраста, Старовойтов в звании подполковника мог быть в любой момент отправлен в отставку. Это и произошло через 2,5 года, и он был вынужден завершить службу в Вооруженных силах (фактически расставшись с ЦСКА). Для сохранения его реноме и признавая большие заслуги уважаемого хоккейного рефери, Федерация хоккея СССР (ФХ) назначила А.Старовойтова председателем судейской коллегии, а позднее своим секретарём с правом ежегодного выезда в составе Советской делегации на чемпионаты мира по хоккею. Зная всё это, А.Иглсон в переговорах с Дж.Ахерном мог «резонно» лоббировать включение Старовойтова в состав Исполкома МФХЛ от Советского Союза. В ходе чемпионата мира 1969 г. канадец искал контакта со А.Старовойтовым, используя в качестве повода обсуждение вопросов организации первых встреч канадских профи (НХЛ) с командой СССР. Старовойтов дважды уклонялся от прямых общений с Иглсоном в Стокгольме, ссылаясь на необходимость предварительного согласия на подобные переговоры президента НХЛ К.Кэмпбелла (естественно, таким согласием Иглсон не располагал). Однако канадец убедительно доказал бóльшую (чем у Президента НХЛ) степень своего влияния на согласие «звезд» НХЛ «играть против русских» - как «руководитель профсоюза» игроков НХЛ (A.Eagleson; Power Play, 1991). Через третьих лиц (A.Kukulowicz, интервью канадской вещательной корпорации, 2006) он сообщил Старовойтову о высокой вероятности его включения в состав Исполкома МФХЛ. Так Иглсон всё-таки добился (под обещание не предавать это гласности) необходимой ему встречи (А.Сеглин - личное сообщение, 1992) с несговорчивым секретарем ФХ СССР. Вначале А.Иглсон обсуждал в общих чертах саму возможность встреч хоккеистов НХЛ с командой СССР. Затем, ссылаясь на договоренность «ХК» с Дж.Ахерном, Иглсон поведал Старовойтову о большой вероятности его избрания в состав Исполкома МФХЛ. Залогом тому должно было стать его содействие интересам «Хоккей Канада». Раскрывая их, канадец коснулся роли тренера сборной СССР А.Тарасова (позицию которого А.Иглсон характеризовал как неприемлемую для Канады), зная неприязненное отношение к нему Старовойтова. Иглсон не скрывал, что готов стимулировать любые попытки исключить Тарасова из переговорного процесса. Он обещал сформулировать отношение игроков НХЛ к соревнованию с хоккеистами СССР в отдельном манифесте, где роль Тарасова будет подвергнута особой критике. Старовойтову предложили обнародовать на ФХ СССР неприятие канадцами как оскорбительных заявлений тренера А.Тарасова, так и его «навязчивой роли» главного инициатора с советской стороны. А.Иглсон подчеркивал, что горячность и непреклонность Тарасова в наиболее острых ситуациях и конфликтных вопросах может и должна быть использована против него внутри ФХ, которой рекомендовалось полностью взять переговорную инициативу на себя. А.Иглсон заявил, что как директор ХК, вскоре после ЧМ в Стокгольме посетит Москву. Там, на встрече с хоккейным руководством СССР (согласие на которую он уже получил по дипломатическим каналам через посла Канады в Советском Союзе Р.Форда), он одним из условий предстоящих переговоров будет выдвигать участие в них с советской стороны г-на А.Старовойтова, а также передаст официальное обращение (манифест) ХК к Спорткомитету СССР.
Итак, мы видим, что Канада делегирует одному из директоров ХК А.Иглсону полномочия инициировать переговорный процесс о соревнованиях НХЛ с СССР, и безотлагательно начинает его на территории СССР с официальными лицами.
Упомянутый, 36-ой по счету чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Стокгольме с 15 по 30 марта. В турнире принимали участие 6 лучших команд планеты, и он впервые проводился в два круга – всем командам было суждено сыграть по 10 матчей. Значительно обновленная сборная СССР в столице Швеции одержала очень трудную, но достойную победу, 7-ю подряд. Канадцев мы победили дважды (7:1 и 4:2). Это была сильная команда: 12 её игроков осенью того же года уже полноценно выступали в клубах НХЛ. Поражения от сборной Чехословакии (0:2 и 3:4) бесспорно создали впечатление ослабления былой мощи советской команды (тем более, что и в Греноблем мы тоже уступили хоккеистам ЧССР 4:5). А.Иглсон позднее использовал это как аргумент для своих игроков-подопечных в пользу реальности и обоснованности победного исхода соревнования с русскими, которые станут легкой добычей для профессионалов. Располагая принципиальным одобрением своих главных «клиентов» (К.Брюер, Б.Орр, Б.Руссо, Р.Жильбер, Ж-К.Трамбле, Б.Харрис, Б.Баун, Н.Ульманн и др.), глава АИНХЛ отправился с запланированным (и уже согласованным) визитом в Москву для проведения переговоров с представителями Спорткомитета и Федерации хоккея СССР.

«За нарушение спортивной этики»
А.Иглсон посетил Москву в первых числах апреля 1969 г. – сразу после завершения чемпионата мира по хоккею в Стокгольме. Благодаря просьбе канадского посла Роберта Форда, он был принят официальными лицами Комитета по физической культуре и спорту при Совмине СССР. Переговоры с директором ХК вели заместитель председателя, руководитель управления международных связей Комитета В.Коваль и ответственный секретарь Федерации хоккея СССР А.Старовойтов. Федерация хоккея СССР как таковая была умышленно отстранена от данных переговоров (её представлял только Старовойтов). С канадской стороны
в переговорах участвовал один из секретарей посольства и, в качестве переводчика, канадец А.Кукулович из московского отделения «Air Canada». Канадский гость зачитал и передал советской стороне подготовленный официальный документ о состоянии советско-канадских хоккейных отношений и перспективах их дальнейшего развития. В своих мемуарах (1991) Иглсон называет его Манифестом, утверждая, что он был написан ночью (в офисе «Air Canada») непосредственно перед встречей с советскими спортивными функционерами.
Особое место в документе Иглсона занимала критика А.Тарасова за его «грубое обвинение канадских хоккеистов и руководства НХЛ в трусости», сделанное в январе 1969 года. Меморандум подтверждал желание хоккеистов НХЛ соревноваться с советскими спортсменами, но указывал на главное условие - необходимость первоначального обращения Федерации хоккея СССР в МФХЛ за согласием на эти встречи. Вот полный текст этого документа (The Empire Club of Canada, 1970).
«Господа! Я хочу искренне поблагодарить вас за организацию этой встречи со мной. Как вы знаете, на прошлой неделе в Швеции я встречался с различными представителями международного хоккея, включая господина Дж.Ахерна. Я ожидал увидеть вас там, но вы предложили дождаться встречи в Москве (обратите внимание, о беседе со Старовойтовым в Стокгольме ни слова) на более высоком уровне. И вот я здесь. Я передаю вам привет и наилучшие пожелания Ассоциации Игроков Национальной Хоккейной Лиги, исполнительным директором которой я являюсь. Наша ассоциация во многом представляет собой профсоюз, а я знаю, как в вашей стране внимательно и серьёзно относятся к трудящимся и профсоюзам, защищающим их интересы. У нашей Ассоциации очень хорошие отношения с владельцами всех клубов, и, хотя я не представляю их здесь ни в каком виде, я уверен, что они разделяют позиции и мнение большинства её членов.
Я видел игру вашей команды неоднократно в последние годы. У вас много игроков высокого калибра. Такие сегодняшние звёзды НХЛ как Бобби Орр, Серж Савар, Дерек Сэндерсон и Дэнни О’Ши играли против советских команд, и с большим уважением относятся к вашим игрокам. Наша сборная Канады высоко оценивает вашу высококлассную игру. Тренер Джек Маклеод утверждает, что у вас очень хорошая команда. (см. выше – Олимпийски сезон 1968 г.) Многие другие игроки НХЛ убеждены в вашем большом потенциале. Некоторые спортивные репортёры и комментаторы уверены, что вы способны соревноваться с профессионалами, и добьётесь в этом успеха.
Члены нашей Ассоциации преимущественно граждане Канады. Многие из них живут и работают в США, оставаясь канадцами. Мы очень гордимся нашей страной и расстраиваемся, когда читаем, что Россия воспринимается как чемпион мира. Мы-то считаем истинными чемпионами мира обладателя Кубка Стэнли.
Несмотря на похвалу, которую вы получаете в определенных кругах, многие другие смотрят на ваш стиль хоккея без восторга. Преобладающее большинство североамериканских любителей хоккея, тренеров, репортеров, телевещателей и специалистов считают, что ваша команда более низкого уровня. Они уверены, что команды НХЛ будут побеждать вас в каждой игре с разрывом в 7-8 шайб.
Я не разделяю такую оценку вашего хоккея, но категорически заявляю, что НХЛ, по моему глубокому убеждению, обладает более высоким уровнем этой игры. Наши профессиональные хоккеисты гордятся собственным мастерством и уверены в своём превосходстве. Команды Чехословакии и Швеции считают, что вам повезло с победой в недавнем чемпионате мира 1969 г. Они подчеркивают, что всё решила ваша победа с гигантским счётом над совершенно неподготовленной командой США. Но для меня это не довод. Вы признанные чемпионы мира. Вы победили в этом чемпионате, и иные соображения, какими бы они ни были, не значат ничего. МФХЛ, изменив свои правила, допускает ныне участие шести (6) профессиональных (временно утративших этот статус) хоккеистов в чемпионате мира. Это ничтожная «уступка», и она мало что меняет, поскольку пока лучшие любители мира не встретятся с лучшими профи мирового хоккея, ваши победы будут всегда сомнительными. Чехословакия и Швеция уже заявили о своём интересе к соревнованию с профессионалами, и будет досадно, если их первые матчи в Европе пройдут без участия Российской команды – любительского чемпиона мира. Есть много примеров встреч любителей и профессионалов. Национальная сборная команда Канады в последние годы не раз встречалась с командами НХЛ из Детройта, Нью-Йорка и Сент-Луиса. МФХЛ всегда давала согласие на подобные встречи. По правилам любительской международной федерации именно вы должны подать заявку на проведение таких игр. У меня с собой новостной отчет канадской газеты «Торонто Стар» из Москвы по данным советской печати от 11 января 1969 г. В нём есть ссылка на статью (см. выше) вашего российского тренера Тарасова. Статья озаглавлена «Гордость или трусость».
Я зачитаю некоторые отрывки из этой статьи. Тарасов пишет:
«Мы неоднократно повторяли наш вызов, мы пытались найти самые сильные аргументы и доводы, чтобы спровоцировать вашу реакцию. Мы говорили, что это «мы», а не «вы» являемся чемпионами мира. Давайте сразимся и увидим, что когда вы победите нас, то докажете, что это вы сильнейшие во всем мире, а не только в западном полушарии.
Канадские любители уже не соперники нашей команде. Канадская сборная только дважды обыграла нас за последние 5 лет, и оба раза только на канадских катках и по канадским правилам.
Россия не боится играть по более жестким профессиональным правилам. Мы уверяем вас, что быстро отобьем охоту к хулиганским выходкам у любого, кто будет играть с советской сборной в грязный хоккей. И мы сильны, потому что игроки профессионально относятся к своему делу. Настало время канадским официальным лицам прекратить разговоры о своем превосходстве, и позволить всему миру увидеть самый интересный и наиболее захватывающий спектакль, который доставит небывалое удовольствие каждому, кто увидит это зрелище, присутствуя на играх лично, или по телевидению».
Ваш тренер в той статье бросил нам вызов, и игроки готовы ответить на него. Наши хоккеисты не трусы. Это гордые люди, и они устали от таких нападок. И они будут удовлетворены, когда нанесут вашей команде решительное поражение. Владельцы НХЛ очень заинтересованы в играх такого типа. Руководство клуба в Торонто высказывало в январе 1969 г. готовность провести соревнование профессионалов НХЛ с любителями уже в этом году. И такое мнение владельца даже одного клуба отражает интерес хозяев всех команд НХЛ, потому что они очень гордятся своим продуктом.
Я выступаю от имени работающих людей, истинных трудящихся, которыми в политической системе России дорожат и которых особенно ценят. И мы готовы дать вам возможность, которой, как вы утверждаете, вас лишают - сыграть с лучшими в мире профессионалами.
По конституции Международной Федерации Хоккея на Льду ваша Федерация имеет право обратиться за разрешением на проведение таких игр. Если вы хотите играть с нами, сделайте такое официальное обращение. Если же вы не обратитесь, мы будем считать, что это вы боитесь соревноваться с нами. Джентльмены, слово за вами! Если же нет, мы будем признательны за то, что вы перестанете делать вызовы, которые сами боитесь осуществлять, когда их принимают».
Такой без сомнения выдающийся дипломатический документ подготовил искушенный политик и бизнесмен, знающий немалый толк в законодательстве, так как с 1963 года А.Иглсон активно занимался внутриполитической деятельностью (с 1967 г. Иглсон член законодательного собрания провинции Онтарио).

Оставляем читателю полное право самостоятельно оценить сей опус и творчески представить его возможные последствия. Подчеркнём только, какой изощренный тактический ход делает Иглсон, меняя формат решения проблемы с открытой публичной дискуссии на келейный административно-бюрократический торг. Добавим лишь, что к моменту окончания переговоров Коваль и Старовойтов заверили канадскую сторону в том, что А.Тарасов высказывал свое личное мнение, которое не отражает позицию спортивного руководства СССР. Однако стоило А.Иглсону вернуться домой из поездки по Европе, как вскоре в журнале «Canadian Magazine» (субботнее приложение монреальской «») 19 апреля 1969 г. появилась новая статья (на 4 полосы!) А.Тарасова под заголовком «Вы отказываетесь играть с нами, потому что боитесь поражения».
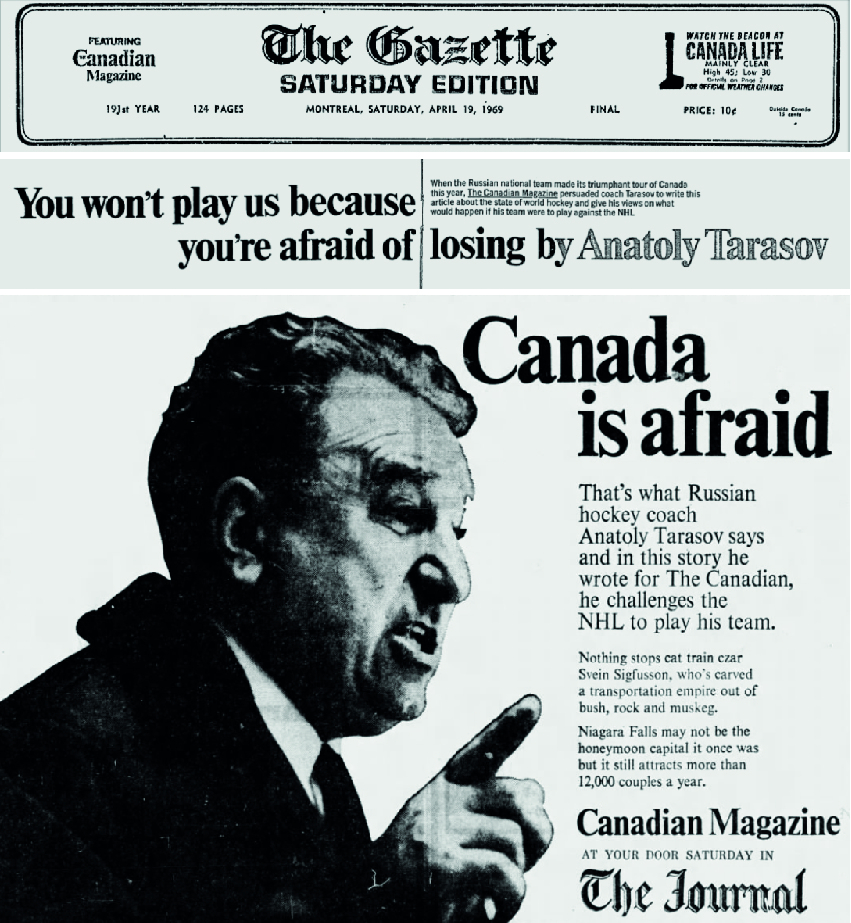
Мы видим, что в Канаде снова звучит дерзкий вызов Тарасова всей Национальной хоккейной лиге. Но в Москве уже пущены в ход жернова беспощадной (и небескорыстной!) административно-бюрократической машины, ограничивающей профессионала в его праве независимо определять судьбу своего дела.
>span class="Apple-tab-span" data-redactor-span="true">После очередной победы команды СССР на чемпионате мира наступила завершающая фаза национального первенства Советского Союза. К решающему матчу за звание чемпиона страны лидеры «Спартак» и ЦСКА подошли с разницей в одно очко. Ажиотаж вокруг календарного матча 11 мая достиг небывалой степени накала. Всем хорошо известны подробности и итоги этого небывалого поединка. Сегодня недалёкие «правдорубы» умудряются извлечь из «глубин веков» свидетелей и даже участников случившегося в том матче вопиющего жульничества. Рассчитывая на достоверность их воспоминаний (весьма сомнительную в таком возрасте). «Детальность» этих реминисценций 50-летней давности выглядит смехотворно и абсурдно. Повторимся, обратив лишь внимание на главных действующих лиц. За десять минут до окончания игры, непрерывно атаковавшие армейцы сравняли счёт (2:2). Но главная судейская комиссия (ей в тот вечер руководил именно А.Старовойтов, нервные метания которого у судейского столика неумолимо засвидетельствовали телекамеры), сославшись на неисправность хронометра на табло стадиона, отменила забитый гол, утверждая, что контрольный секундомер (который доступен только этой комиссии) показал истечение игрового времени ещё до забитого гола. В то время как табло после гола демонстрировало 2 оставшиеся секунды. В знак протеста А.Тарасов совершил гневный демарш и на глазах у находившихся на матче членов Политбюро ЦК КПСС и десятков миллионов советских телезрителей увёл команду ЦСКА в раздевалку. Только через 35 минут под давлением министра спорта С.Павлова и министра обороны маршала А.Гречко армейцы возвратились на лёд. Утратив недавний игровой запал, обескураженные вопиющей несправедливостью, они в итоге потерпели поражение со счетом 1:3 и уступили звание чемпиона СССР «Спартаку». Горячность и непреклонность Тарасова (см. выше – А.Иглсон в переговорах со Старовойтовым), «проявляемая в наиболее острых ситуациях» внутри советского хоккейного сообщества была использована против него сполна. На следующий день Федерация хоккея СССР выступила перед спорткомитетом СССР с инициативой лишения А.Тарасова звания Заслуженного тренера СССР. Руководящий спортивный орган страны на своей Коллегии поддержал это предложение, и Тарасова «за нарушение спортивной этики» лишили не только почетного звания, но, по умолчанию, отстранили от руководства сборной СССР. Многие центральные газеты страны («Правда», «Советский Спорт», «Труд» и др.) пестрели комментариями известных деятелей спорта - Н.Озерова, Н.Сологубова, В.Сыча и др., осуждавших поступок Тарасова. В те же дни лавина сообщений по этому поводу прокатилась по всей спортивной печати Северной Америки. Газеты Оттавы, Монреаля, Торонто, Калгари, Ванкувера, Эдмонтона, Виннипега, Бостона, Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Чикаго сообщили о наказании А.Тарасова и лишении его звания Заслуженный тренер СССР. Так красочно завершился в Советском Союзе хоккейный сезон 1968-69 гг. (16.05.1969)
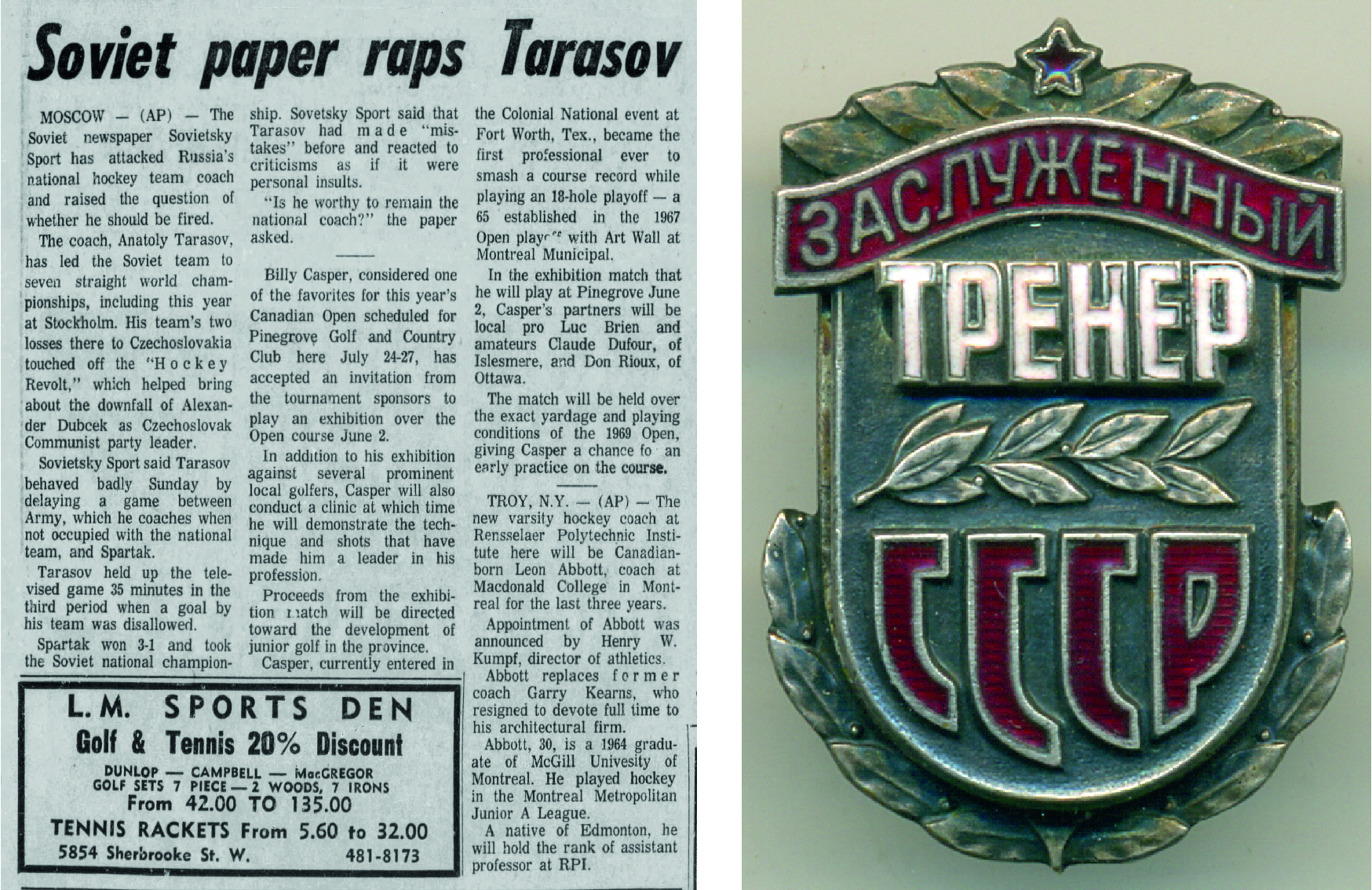
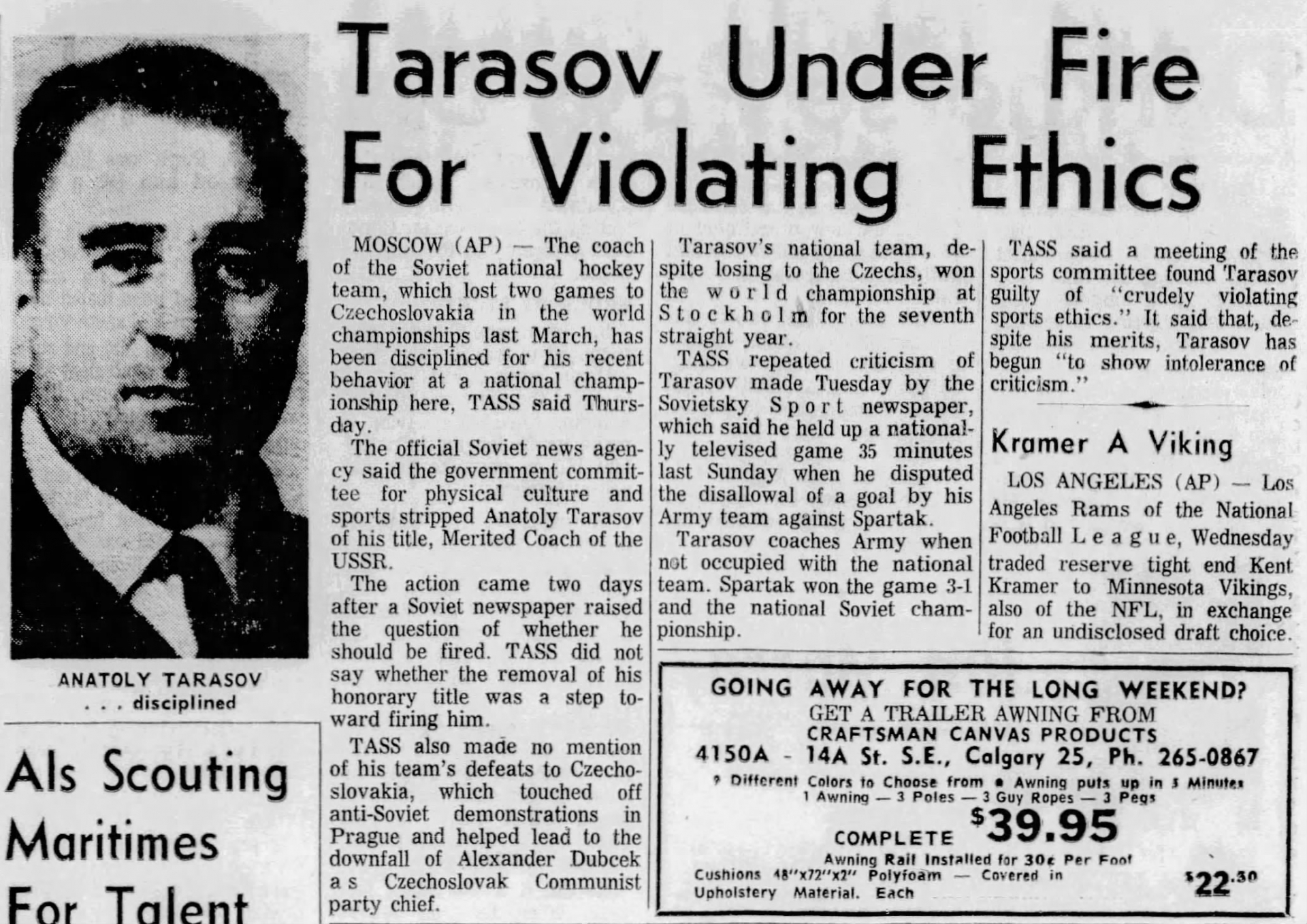
В последней декаде мая 1969 г. президент МФХЛ Джон «Банни» Ахерн посетил Канаду и провел длительные переговоры с руководителями ХК (Hap Emms), НХЛ (Clarence Campbell) и представителями Совета Директоров НХЛ (David Molson, Stafford Smythe). Обсуждались возможность и условия проведения матчей команд НХЛ с командами СССР и, возможно, ЧССР. Доводы А.Иглсона возымели действие! Но главной темой оставалось намерение Канады добиваться права участия в ближайшем чемпионате мира (Монреаль и Виннипег, 1970 г.) хоккеистов профессиональных лиг. Поскольку устав НХЛ не позволял её хоккеистам в течение одного сезона выступать за кого-либо, кроме команд НХЛ, речь могла идти о включении в сборную Канады только игроков профессиональных лиг меньшего ранга (где в числе иных выступали и фарм-клубы Национальной хоккейной лиги). Либо игроки НХЛ для вхождения в состав сборной страны должны были временно, но на полный сезон, утратить статус профессионала, получая зарплату вне своего клуба – условие, неприемлемое для любого хоккеиста лиги. Но, поскольку в дочерних профессиональных лигах временно (в силу разных обстоятельств) нередко играли некоторые классные мастера клубов НХЛ, их призыв в сборную команду заметно повышал шансы канадцев на создание сильной команды к чемпионату мира на родине. Вместе с тем, совокупность этих обстоятельств надежно ограждала игроков лучших клубов высшего дивизиона – не допущенной к ЧМ элиты НХЛ, - от риска национального позора в случае поражения сборной страны на родном льду.
Алан Иглсон и Ассоциация Игроков НХЛ начали активную кампанию поддержки комплектования сборной Канады игроками лиги. В идеале предлагали выдвинуть по 2 профессионала-хоккеиста от каждой (всего 12) команды НХЛ, которые к 31 июля 1969 г. должны бы были на сезон обрести статус любителей. Тогда они становились пригодны к участию в мартовском 1970 г. чемпионате мира в Канаде. Хозяева клубов «Торонто» и «Монреаль» обещали выделить даже по 3 любых, желающих выступать за сборную, игрока. А Хоккей Канада со своей стороны - компенсировать зарплату НХЛ; для каждого такого игрока предлагали сезонный гонорар в размере $30.000. Таковы были предварительные договоренности руководителя АИНХЛ и исполнительного директора ХК А.Иглсона с Советом директоров Национальной хоккейной лиги.
Наряду с этим европейские хоккейные федерации Швеции, ЧССР и особенно СССР продолжали изучать возможность проведения серии встреч со сборной НХЛ, что находилось в ведении и решалось только с участием президента МФХЛ Дж.Ахерна.
Отстраненный от национальной команды А.Тарасов проводил в июле месяце плановый тренировочный сбор ЦСКА на черноморском побережье Кавказа в армейском пансионате Кудепсты и Красной поляны. Атлетические нагрузки там задавались таким образом, чтобы позволить команде форсированно набрать форму и в августе-сентябре победно завершить турнир на приз газеты «Советский Спорт», в котором должна была участвовать сборная Канады.
Одновременно в советской Федерации хоккея обсуждался план подготовки сборной СССР к новому сезону. Совещание, которое Тарасов демонстративно и твердо игнорировал, завершилось ультиматумом старшего тренера А.Чернышева, потребовавшего возвращения своего коллеги и напарника на пост тренера сборной. Все понимали, что предстоящий чемпионат мира в Канаде выиграть будет крайне трудно, а без тренера ЦСКА невозможно, и по умолчанию большинство членов Президиума с этим были согласны.
Ежегодный турнир на приз газеты «Советский Спорт» всегда считался традиционным тестом на готовность команд к предстоящему первенству страны. ЦСКА, и особенно его старшему тренеру, было важно с самого старта сезона показать превосходство над соперниками, в первую очередь над «Спартаком». К тому же в турнире (начальный этап соревнования проводился в нескольких городах: Москве, Ленинграде, Минске и Челябинске) сборная команда Канады выступала в своем сильнейшем составе («Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» перед наступлением в НХЛ нового сезона смогли предоставить сборной Канады для этого европейского турне по 5 своих действующих игроков: Brian Conacher, Bill Harris, Jim McKenny, Wayne Carlton, Bill MacMillan и Chuck Lefley, Ken Dryden, Phil Roberto, Guy Lapoint, Bob Murdoch соответственно). Тарасову не терпелось в очном поединке на старте сезона, победив канадцев (именно силами ЦСКА), создать психологическое превосходство над будущим соперником, начинающим готовиться к победе в чемпионате мира у себя на родине (март 1970, Монреаль, Виннипег). Но канадцы, внимательно изучив расписание турнира, согласились выступать только на ленинградском зональном этапе, запланировав после этого переезд на игры в Финляндию и Швецию. Таким образом, они сознательно исключили свое возможное участие на этапе плей-офф в Москве, где неизбежно столкнулись бы с сильнейшими хоккеистами СССР.
Тем не менее, сборная Канады в Ленинграде показала уверенную и сильную, «свою» игру. За неделю были сыграны 5 матчей с советскими клубами (один из них с финским) и одержаны 4 победы. Тренер Дж. Маклеод, удовлетворенный итогом турнира, отправился с командой в Финляндию и Швецию, где канадцы одержали ещё 4 победы.
ЦСКА убедительно выиграл этот турнир, одержав в полуфинале яркую победу над чемпионом СССР «Спартаком» со счетом 7:2. В той игре ворота армейцев, впервые выступая за команду мастеров, блистательно защищал 17-летний Владислав Третьяк. Его игра произвела на специалистов и знатоков хоккея неизгладимое впечатление. Манера действий этого юного дарования была совершенно не похожа на то, что делали более 20 лет все его отечественные предшественники. Тактическая основа и рациональность действий напоминали стиль Сета Мартина, который два последних сезона играл в НХЛ. Но ловкость, быстрота движений и принятия решений были невиданными. Казалось, что играет многоопытный и хладнокровный мастер своего дела.
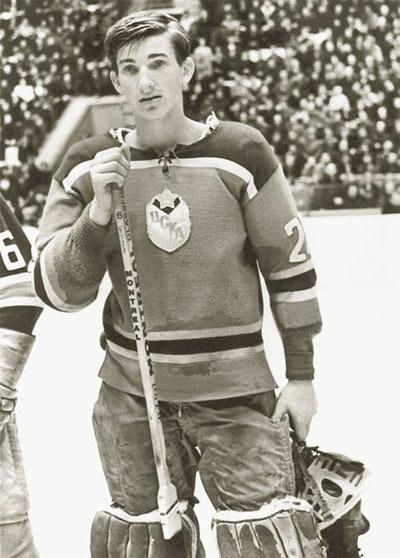

Уже было понятно, что костяк национальной команды снова составят великолепно подготовленные к сезону армейцы. Однако даже после начала (14 сентября 1969 г.) чемпионата СССР Анатолий Тарасов продолжал уклоняться от возвращения к работе со сборной командой, выдвигая непременным условием восстановление звания Заслуженного тренера СССР. Наконец 13 октября 1969 г., на следующий день после победы ЦСКА в финальном матче Кубка Европейских чемпионов над австрийской (!!!) командой «Клагенфуртер АГ» (9:1 и 14:3) для этого возникли формальные основания. Был издан Указ о присвоении А.В.Тарасову звания Заслуженный тренер СССР. Всем стали понятны лживая конъюнктурность и лицемерие бюрократического аппарата отечественного спортивного руководства. Но для сборной Тарасов всё ещё оставался лишь членом тренерского совета, и только 13 ноября он был официально объявлен одним из двух тренеров (как и ранее старший тренер - А.И.Чернышев) национальной команды. Вопрос был исчерпан. Тренер снова занял свой пост в руководстве сборной СССР по хоккею.
Объявление бойкота
Буквально через сутки после «второго пришествия» Тарасова, совсем далеко от Москвы, в Монреале (15 и 16.XI.1969) проходило рабочее заседание МФХЛ, собравшее делегатов из СССР, Швеции, ГДР, ФРГ, ЧССР, Австрии, США и Канады и обсуждавшее подготовку к мартовскому 1970 г. (Монреаль и Виннипег) чемпионату мира. Президент МФХЛ Дж.Ахерн заявил о возникшей опасности срыва этого турнира, сославшись на непреклонность позиции Президента МОК Э.Брендеджа. Последний многократно подчеркивал неотвратимость потери статуса любителей (а, следовательно, невозможность участия в ОИ 1972 в Саппоро) спортсменами, участвующими в соревнованиях с профессионалами. Советский хоккей на совещании представлял А.Старовойтов (с личным переводчиком, как подчеркивали канадские газеты), хотя федерации остальных ведущих хоккейных держав представляли их президенты. На итоговой пресс-конференции, отвечая на прямые вопросы журналистов, делегат от СССР скрыл факт возвращения Тарасова в сборную, заявив, что тот тренирует только ЦСКА. Напомнив о сердечном недомогание тренера, Старовойтов сказал, что его работа в команде и приезд на чемпионат в Канаду остаются под вопросом. Ещё он напомнил аудитории, что тренером № 1 в сборной СССР является А.Чернышев: «Он мыслитель, а вот Тарасов занимается говорильней». (15.11.1969)
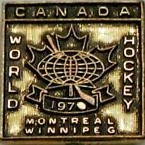
Это двухдневное заседание МФХЛ протекало конфликтно. Джон Ахерн, вступивший на третий срок своего президентства, пребывал в постоянной конфронтации с руководителями КЛХА Э.Досоном и Ф.Пэйджем. Ахерн утверждал, что турнир находится под угрозой срыва, что Президент МОК Э.Брэндедж настаивает на расследовании ситуации в хоккейной федерации, готовой допустить до участия в ЧМ канадских профессионалов. Делегации Швеции и СССР не ратифицировали предлагаемое канадским оргкомитетом расписание игр турнира, к которому также имели претензии представители ЧССР. Организаторы турнира установили крайний срок утверждения окончательного состава участников 8 декабря 1969 г., настаивая на неизменности расписания. Если же советская команда откажется от участия в турнире, её место займёт команда США из пула «Б». (17.11.1969)
А национальная сборная Канады (Nats) продолжала подготовку к «домашнему» чемпионату мира 1970 г. (по плану 42 товарищеских матча) по своему твердому графику. «Выставочные» матчи с клубами второстепенных профессиональных лиг Северной Америки чередовались с турне по Европе и играми с национальными сборными ЧССР и СССР. Было интересно отметить предпочтение канадцев в пользу сборной Чехословакии как спарринг-партнера. Объяснялось это её яркими победами над сборной СССР в чемпионате 1969 г. Выбор канадцев был верным – команда ЧССР громила их нещадно, не позволив выиграть в ноябре не одного матча из пяти (две ничьи, три поражения).
Тем тревожнее выглядела после этого наша неубедительная трудная ничья (2:2) в игре с той же сборной Канады на турнире Приз «Известий» в Москве. Экс-профессионалы канадской команды (а их было в составе семеро) навязали нашей малоопытной (см. ниже) молодежи цепкий сковывающий силовой хоккей по всей площадке. Тарасов на послематчевой пресс-конференции пообещал к началу чемпионата мира в Канаде выработать у молодых наших игроков умение преодолевать такое обезоруживающее сопротивление противника.
В декабре сборная СССР отправилась в очередное предновогоднее турне по Канаде. Состав команды был заметно (почти на треть) обновлен молодыми дебютантами (П.Андреев, А.Гусев, И.Григорьев, Ю.Ляпкин, С.Солодухин, В.Третьяк, В.Шеповалов), ранее не игравшими за сборную СССР в условиях «канадской мясорубки». Итоги турне были откровенно неудовлетворительными – 3 поражения от сборной Канады и 1 (крупное!) от юниоров «Монреаль Канадиенс» при 2-х победах над сборной и 2-х над молодежными клубами младших профессиональных лиг. Знакомая нам монреальская «The Gazette» 30 декабря вышла с заголовком на первой странице - «Русским задали трёпку». Спортивный раздел газеты декларировал крупными буквами: «Последнее событие года: юниоры побили русских».
Итоги этого матча с юниорами «Монреаль Канадиенс» от 29.12.1969 г. привели неуёмного А.В.Тарасова к весьма разнородным выводам. Канадцы действительно учинили сборной СССР показательную порку в присутствии 18,500 зрителей в знаменитом монреальском «Форуме», одержав крупную победу 9:3. Столь тяжелого поражения советская хоккейная команда никогда (!) не испытывала. И это был далеко не тот случай неожиданной победы, который Тарасов обычно характеризовал как выигрыш «с перепугу». У нас, правда, не играли Фирсов, Старшинов и Зимин. В канадской команде настоящих юниоров было всего 8 человек (18-20 лет), но очень сильных и перспективных, из которых вскоре первыми звездами НХЛ стали Жиль Перро и Роб'ер Мартен. Юный «Монреаль» в той игре был усилен молодыми (20-23 лет), но уже настоящими действующими профессионалами «Монреаля» (Р.Уль, Л.Гренье, Г.Шаррон, Г.Лапойнт, М.Тардиф), «Чикаго» (Ж-П.Бордело), «Нью-Йорка» (А.Дюпон) и «Детройта» (Дж.Рутерфорд). К ним добавили еще трех игроков младших профессиональных лиг. В сборной СССР в том турне молодежи тоже было много (12 игроков 17-22 лет), в т.ч. 7 дебютантов (см. выше). Однако все эти обстоятельства, а также фактор последней игры турне (сборная на следующий день улетала домой) не могли служить для чемпионов мира оправданием такого разгрома. Хитрый Тарасов на послематчевом брифинге, уклоняясь от анализа причин поражения, сослался на усталость к концу турнира и неопытность своей молодёжи в канадских условиях, акцентировав внимание прессы на великолепном судействе канадских арбитров. (30.12.1969)
Канадцы в той игре использовали гибкое сочетание тактики силового давления в зоне соперника с бэкчекингом (с момента потери шайбы). При этом они демонстрировали предельную двигательную активность. На фоне усталости (как физической, так и психологической) наших игроков, высокая атлетическая отдача хоккеистов «Монреаля» стала решающей. Фактически молодые канадцы обыграли сборную СССР с помощью её же основного тактического оружия последних 5 лет. Возникал закономерный вопрос: по силам ли канадцам (не этим молодым, а сборной профессионалов) подобная безудержная игра на всем протяжении турнира из 10 матчей в течение 2-х недель (таким стал регламент чемпионата мира)? Частичный ответ пришел через день, когда стало известно, что эти самые юниоры «Монреаля» (понятно, без былого усиления) разгромно проиграли свой очередной календарный матч более слабой команде сверстников из «Петерборо Пэтс» 1:7!
Естественно, в ходе многоматчевого турнира «взрослые» игроки Канады так энергозатратно во всех матчах играть не смогли и не стали бы. Однако в очных встречах с командой СССР (а их всего две) нельзя было исключать такого тактического варианта в исполнении канадцев. Поэтому особое значение приобретало (наряду с сохранением традиционного атлетического превосходства советских хоккеистов) расписание игр чемпионата, соответственно которому главные претенденты на чемпионский титул, перед очной встречей должны были находиться в равных условиях – у обеих команд день отдыха, либо, если день игр, то с соперниками примерно одного калибра. К сожалению, Оргкомитет чемпионата – а это всегда работники местной национальной федерации – сделали всё (и явно осознанно) с точностью до наоборот, отдав в этом заведомое превосходство канадцам (см. ниже).
По итогам турне и под впечатлением атмосферы, царившей в тот период в канадской хоккейной индустрии, Чернышев и Тарасов поняли, насколько усложняется решение стоящих перед сборной задач. Ознакомление с расписанием игр (см. фрагмент*) приближающегося первенства в Монреале и Виннипеге показало, что для хозяев турнира создавались преимущественные условия по сравнению с командой СССР.
| СОПЕРНИКИ | 1-й круг | 2-й круг |
|---|---|---|
| Канада – ЧССР | 15.03 | 23.03 |
| Канада – Финляндия | 16.03 | 29.03 |
| СССР – ЧССР | 17.03 | 29.03 |
| Канада – СССР | 18.03 | 30.03 |
| Канада – США | 20.03 | 25.03 |
| Канада – Швеция | 21.03 | 27.03 |
Перед днем первой очной встречи Канада – СССР (1-й круг турнира) у нашей сборной в расписании значилась встреча со сборной ЧССР, а у канадцев – день отдыха, неигровой день! Перед второй игрой (заключительной в чемпионате!) между собой команд СССР и Канады, ни та, ни другая, не имели дня отдыха. Однако у канадцев соперником были финны, а у нас снова сборная ЧССР. Руководитель советской делегации Г.Мосолов в день отлёта из Канады на пресс-конференции в аэропорту Монреаля заявил о требовании Советской федерации изменить к началу соревнований календарь игр для создания соперникам равных условий. Этот ультиматум относился и к руководству МФХЛ, экстренный конгресс которой должен был начаться в Швейцарии в первых числах января 1970 г. В случае несогласия оргкомитета выполнить это требование, сборная СССР как действующий чемпион мира считала себя вправе отказаться от участия в таком турнире.
Анализируя итоги самого трудного, впервые по большому счету проигранного за 12 лет турне по Канаде, А.Тарасов и А.Чернышев вынуждены были пересмотреть приоритеты задач сборной СССР не только на текущий сезон, но и во имя стратегических целей отечественного хоккея. Они понимали, что победа в предстоящем через 2,5 месяца чемпионате в Канаде будет крайне затруднительна и маловероятна. Вся мощь ресурса родины хоккея (помимо чисто спортивных преимуществ – календарь игр, малые площадки, преобладание североамериканских судей) - финансовая, медийная и политическая - будет полностью мобилизована для обеспечения победы хозяевам турнира. Сам факт поражения чемпионов мира из страны Советов в борьбе (пусть спортивной) с одной из стран блока НАТО (особенно после инвазии в Чехословакию) не предвещал тренерам ничего хорошего. Прежде всего, Тарасову, только недавно «восстановленному в правах». Как на уровне высшего спортивного начальства, так и в сферах политического и идеологического руководства страны, могли последовать необратимые оргвыводы. Поражения чемпионов мира в канун 100-летия со дня рождения вождя Великой Октябрьской революции руководителям сборной не простили бы наверняка. Победа же сборной Канады с далеко не самым сильным составом над русскими в «любительском» чемпионате мира надолго, если не навсегда, закрывала вопрос о соревновании любителей с лучшими мастерами НХЛ.
Так что высшая цель, самый смысл спортивной деятельности, да и всей жизни Тарасова – встречи и победа над лучшими профессионалами Канады - могла отодвинуться надолго или просто рухнуть. Тем более, что на тот момент готовность к равной борьбе с лучшими канадскими профессионалами демонстрировали лишь единицы из состава сборной СССР. Да и сам формат чемпионата мира, где команды могли встретиться всего два (2) раза, не создавал условий для максимально объективного, закономерного исхода соревнования. Фактор случайности, стихийного поворота событий в двух матчах мог быть неизмеримо выше, чем, например, в серии из 8-10 игр по обе стороны океана (недаром в истории финалов Кубка Стэнли соревнование нередко длилось до семи матчей подряд). Стандартный формат официального международного турнира высшего уровня по убеждению Тарасова совершенно не годился для подлинного сравнения двух хоккейных школ.
Борьба канадцев за право допуска к участию в ЧМ профессионалов НХЛ длилась около года. Мы попытаемся отразить её картину детально, выделив из хронологии основного повествования. Важно отметить, что читателю предлагается версия описания событий, существующая в анналах МФХЛ (канадской стороной по сей день отстаивается альтернативная трактовка тех событий).
Всё началось на мартовском (1969 г.) Конгрессе МФХЛ в ходе ЧМ в Стокгольме. Там делегация Канады впервые официально подняла вопрос об участии профессионалов в чемпионате мира, но не получила поддержки. МФХЛ было не до этого. В тот момент она переживала кризис из-за напряженных отношений между ЧССР и СССР. В связи с «оккупацией» Праги и постоянными демонстрациями в столице Чехословакии, перенос турнира в другой город (им стал Стокгольм) стал неизбежен. На следующий, летний (07.1969) Конгресс МФХЛ канадская делегации, появилась уже в составе 15 человек. И возглавлял её не кто иной, как Президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл. Глава канадской делегации неприкрыто пытался заинтересовать европейские федерации различными «выгодными» предложениями. Например, в Канаду приглашались национальные делегации (по 6 лучших игроков страны) для знакомства с клубами НХЛ и посещения игр с полным покрытием расходов канадской стороной. Специалистам из Европы на тех же условиях предлагалось участвовать в тренерских семинарах, проводимых Национальной хоккейной лигой. Канадская делегация показала специально снятый киносюжет, в котором Премьер министр Канады призывал к проведению открытых международных хоккейных турниров с участием игроков НХЛ. Заманчивые предложения были сделаны и руководителям национальных федераций, представленных в группах В- и С- МФХЛ. Их поддержка и голоса также влияли на принятие канадского предложения. Однако в итоге за канадское предложение проголосовали только 20 делегатов, при 30 голосах «против». Канада, тем не менее, не смирилась с неудачей и продолжила торг, выступив с новым предложением: разрешить каждой команде иметь в составе до 9 профи (не из НХЛ), продолжительность любительского статуса которых составляет не менее 6 недель до начала ЧМ. Итоги рассмотрения показали, что голоса разделились поровну – 25 на 25. Решающим становился голос Президента МФХЛ Дж.Ахерна, и он проголосовал «за» канадское предложение. В канун нового 1970 г. на весь спортивный мир прозвучал ультиматум (как считают многие, умело инспирированный самим главой МФХЛ Дж.Ахерном) Президента МОК Э.Брендеджа о недопустимости участия в Олимпийских играх любых спортсменов, хоть один раз соревновавшихся с профессионалами. Решение МФХЛ, готовое к реализации на ЧМ 1970 г., грозило всему хоккею лишением олимпийского статуса! Руководство МФХЛ экстренно созвало свой Конгресс в Швейцарии. И 4-5 января 1970 г. делегации СССР, Швеции, ЧССР, Финляндии и ГДР, дабы не подвергать опасности свой «статус олимпийской пригодности», согласились с предложением Дж.Ахерна лишить команду Канады права включения в состав профессионалов для участия в чемпионате мира.
В ответ на это решение конгресса делегация Канады официально отказалась как от дальнейшего участия в каких-либо соревнованиях МФХЛ, так и от проведения чемпионата мира в марте 1970 г. в Монреале и Виннипеге (несмотря на очевидные убытки). Подобного в более чем 60-летней истории МФХЛ не было никогда. Вся Канада была в ярости от такого решения МФХЛ. Вот что писал по этому поводу весьма авторитетный спортивный журналист Jim Coleman на следующий день в «Toronto Telegram»: "Канада покинула фальшивый мир международного хоккея, и подавляющее большинство канадцев аплодирует такому решению. Не было ни малейшего смысла далее связывать себя с такими лицемерами как шведы и русские. Общение с такой убогой спортивной компанией не принесет Канаде никакой пользы. Невозможно не подцепить блох, валяясь вместе со свиньями» *. (* - Выходя далеко за рамки целей и задач нашего повествования, здесь следует признать, что Канада с 1970 г. ни разу не изменила своего отношения к чемпионатам мира МФХЛ. Она продолжает считать их турнирами «второго сорта» с полным на то основанием. Во-первых, (и так было всегда с 1977 г.), Канада отстаивает абсолютный приоритет соревнований на Кубок Стэнли НХЛ, который всегда совпадает по срокам проведения с ЧМ. Во-вторых, в наши дни уже и потому, что лучшие хоккеисты всех стран выступают за клубы Национальной хоккейной лиги. Даже Олимпийский хоккейный турнир, начиная с 2018 г., перестал быть для лучших хоккеистов Канады турниром для участия. Хотя в последние 20 лет она мобилизовала на него сильнейших игроков НХЛ, одержав победы в трёх (2002, 2010, 2014) Олимпиадах из 5. На фоне канадского присутствия Россия не смогла одержать в шести олимпийских турнирах ни одной победы).
Президент МОК Эйвери Брендедж на следующий день заявил: «Мне нечего комментировать. Это исключительно хоккейный вопрос и Международный олимпийский комитет не имеет с этим ничего общего». Знакомый нам Стаффорд Смайт («Торонто Мэйпл Лифс») возложил всю вину на руководителя МФХЛ «Банни» Ахерна: «Всё это Ахерн затеял ради одной цели – сохранить собственную
власть и империю. «Хоккей Канада» (ХК) должен следовать своим обязательствам и, организовав открытый турнир, пригласить на него европейцев». Партнёр Смайта по «Мэйпл Лиф Гарденс» Харолд Баллард добавил: «Мы многие годы баловали этих парней из МФХЛ. Давно пора дать им всем настоящий бой. Пусть ХК создаст первую подлинную национальную команду для мартовского турнира, который надо провести самостоятельно. Уровень конкуренции будет столь высок, что многие команды покинут соревнование в Европе в пользу нашего турнира». Позднее стало понятно, что ХК не удаётся по ряду объективных причин организовать альтернативный мировому первенству турнир в те же сроки.

Вскоре после этих событий (29.01.1970 г.) Алан Иглсон выступал в Имперском Клубе Канады (ИКК) по проблеме положения канадского хоккея на международной арене. Важно подчеркнуть, что с 1903 года ИКК всегда был и является важнейшей ареной канадского истеблишмента для публичных выступлений различных выдающихся деятелей по острым вопросам современной международной жизни. Его гостями и спикерами в разные годы были У.Черчилль, И.Ганди, О.Хэпберн, Далай Лама, М.Тэтчер, Принц Филип, Р.Рейган, Б.Гейтс, В.Путин и другие. А.Иглсон сознательно и очень умело, через свои политические связи добился права выступить в таком престижном клубе. Сам этот факт лишь подчёркивает, какое огромное значение в жизни Канады имеет хоккей. И как небезразличны все слои общества к состоянию и судьбе этой игры у себя в стране. Доклад Иглсона назывался «Спорт - это Большой Бизнес, а Хоккей - это Спорт». Лейтмотивом содержания выступления Иглсона была стремительно растущая коммерческая привлекательность международных хоккейных соревнований. В окончании той речи Иглсон целиком озвучил текст своего Манифеста 1969г. Снова прозвучали обвинения А.Тарасова в неуважительном отношении к хоккею Канады в лице НХЛ. «Я зачитал им (хоккейным функционерам СССР – прим. автора) подготовленное ХК заявление и дал обещание не публиковать его, если они принесут извинения за оскорбительные выпады российского тренера г-на Тарасова. Копия моего заявления осталась у них. Интересно отметить, что всё, что просил Тарасов, Hockey Canada (ХК) сделал, и, тем не менее, когда дым рассеялся, Россия сбежала в укрытие за мантией «постыдного любительства» Эйвери Брэндеджа». (The Empire Club of Canada Addresses (Toronto, Canada)
Иглсон бесстыдно лукавил перед канадским истеблишментом, прекрасно зная, что у Тарасова было единственное стремление (язык не поворачивается назвать это просьбой) – встречи с мастерами НХЛ. Не только Тарасов, весь советский хоккей к январю 1970 г. показал миру, что время соревноваться с Национальной Хоккейной Лигой пришло. Ведь в матчах советских хоккеистов с канадскими (сборными) командами, наши спортсмены за 8 лет одержали 76,5% побед – 3 в каждых 4-х встречах!
Поскольку анналы Имперского Клуба Канады (ИКК) являются единственным общедоступным источником, разоблачающим атаки А.Иглсона на репутацию А.Тарасова на международной арене и внутри советской хоккейной среды, здесь важно добавить следующее. В своей книге под скромным названием «ВЛАСТНАЯ ИГРА: мемуары царя хоккея Алана Иглсона» (Power Play: the memoires of hockey czar Alan Eagleson; McClelland & Stewart Inc., 1991) значительную часть повествования автор посвятил советско-канадским хоккейным отношениям. Имя Тарасова там не упомянуто ни разу, а также отсутствуют указания на очень важное выступление Иглсона в ИКК.
6 января 1970 г. Швеция дала МФХЛ согласие провести хоккейный турнир Чемпионата мира вместо Канады. В этой связи шведские спортивные редакторы и комментаторы «не жалели огня». Крупнейшая шведская газета «Dagens Nyheter» иронично писала: «Швеция будет проводить турнир, участие в котором канадцам вероломно запретили из-за их стремления использовать хоккеистов-профессионалов. Зато в нём будут участвовать русские хоккеисты, зарплата которых в разы больше, чем у врачей, чехословацкие игроки, ежемесячная хоккейная стипендия которых достигает 900 долларов, те же шведы, ни один из которых не осмелится в здравом уме произнести олимпийскую клятву».
Мы лишь для примера упомянули вскользь те шведские публикации. Но вся мировая пресса, пишущая о хоккее, буквально кипела в те дни от возмущенной полемики о необходимости развенчания «любительского» образа европейского хоккея.
МФХЛ провела чемпионат мира в Стокгольме (с 15 по 30 марта) без участия команд из Северной Америки. Посещаемость матчей турнира (в сравнении с 1969 г.) была ниже на 40%. Победила сборная СССР, выиграв 9 матчей из 10 (единственное поражение в первом круге от сборной Швеции 2:4).
В чемпионате СССР, завершившемся в последних числах апреля, досрочно победил ЦСКА, опередив прошлогодних чемпионов на 13 очков. Тарасов по совету и настоянию научно-педагогической спортивной элиты (Н.Г.Озолин, Л.П.Матвеев, А.В. Коробков и др.) решил завершить свою диссертационную работу «Методы подготовки хоккеистов международного класса». Этому требовалось посвятить вторую половину 1970 г., и Тарасов договорился со своим заместителем Борисом Кулагиным о передаче ему руководства (в виде должности старшего тренера) командой ЦСКА на один сезон. При этом Анатолий Владимирович занял пост Главного тренера Вооруженных сил СССР по хоккею, формально оставаясь начальником всей команды и самого Кулагина. Будучи в новом качестве, но проведя вместе с последним летний тренировочный сбор (Кудепста, Москва), Тарасов занялся подведением итогов своей многолетней исследовательской работы.
Несмотря на откровенный разлад между КЛХА и МФХЛ и прекращение контактов канадских команд с европейским хоккеем, обмен между специалистами Канады и СССР продолжался. Парламентская делегация Канады, находясь в Москве, в частности, обсуждала с советской стороной вопрос возобновления обмена визитами хоккейных команд. Правда с 1970 г. международной жизнью канадского хоккея всех уровней (от юниоров до высших профессионалов) занималась только организация «Хоккей Канада», исполнительным директором которой уже более года был хорошо знакомый нам Алан Иглсон. Возврат к вопросу об историческом сражении советских хоккеистов с профессионалами НХЛ в таких условиях откладывался на неопределенный срок. Стремясь не потерять время, Тарасов использовал любой шанс для возобновления переговоров на эту тему. Крайне заинтересованным в проведении таких встреч был и г-н А.Иглсон, в частности и потому, что оставался Директором профсоюза игроков НХЛ. Но при этом Иглсон превратился в самого яростного противника участия в организации этих матчей А.Тарасова, понимая, что именно тренер сборной СССР изначально был инициатором этого исторического события.
Любительская хоккейная ассоциация Британской Колумбии (одной из западных провинций Канады) на базе одноименного Университета (UBC - № 47 в Мировом рейтинге Университетов 2019) в первых числах сентября 1970 г. проводила в Ванкувере небывалый международный симпозиум хоккейных тренеров. Ключевым гостем и главным докладчиком по современным аспектам тренерского мастерства был гость из СССР Анатолий Тарасов (уже после окончания тренерской карьеры А.В.Тарасов неоднократно посещал этот Университет с той же целью - прим. автора). Помимо лекций и теоретических семинаров он провел серию показательных тренировок с местными юниорскими командами, вызвав небывалый интерес у хоккейной диаспоры провинции. Обучение на семинаре прошли 125 тренеров и 75 хоккейных судей со всей Британской Колумбии. Были гости из других провинций Канады. Тарасов щедро делился своим опытом, много общался в ходе семинара с иностранными (из Канады и США) экспертами по спортивной физиологии, получил немало новых для себя интересных научных сведений (05-16.09.1970). Это во многом предопределило формат его будущей диссертации, к окончательному написанию которой он приступил по возвращении из Канады.
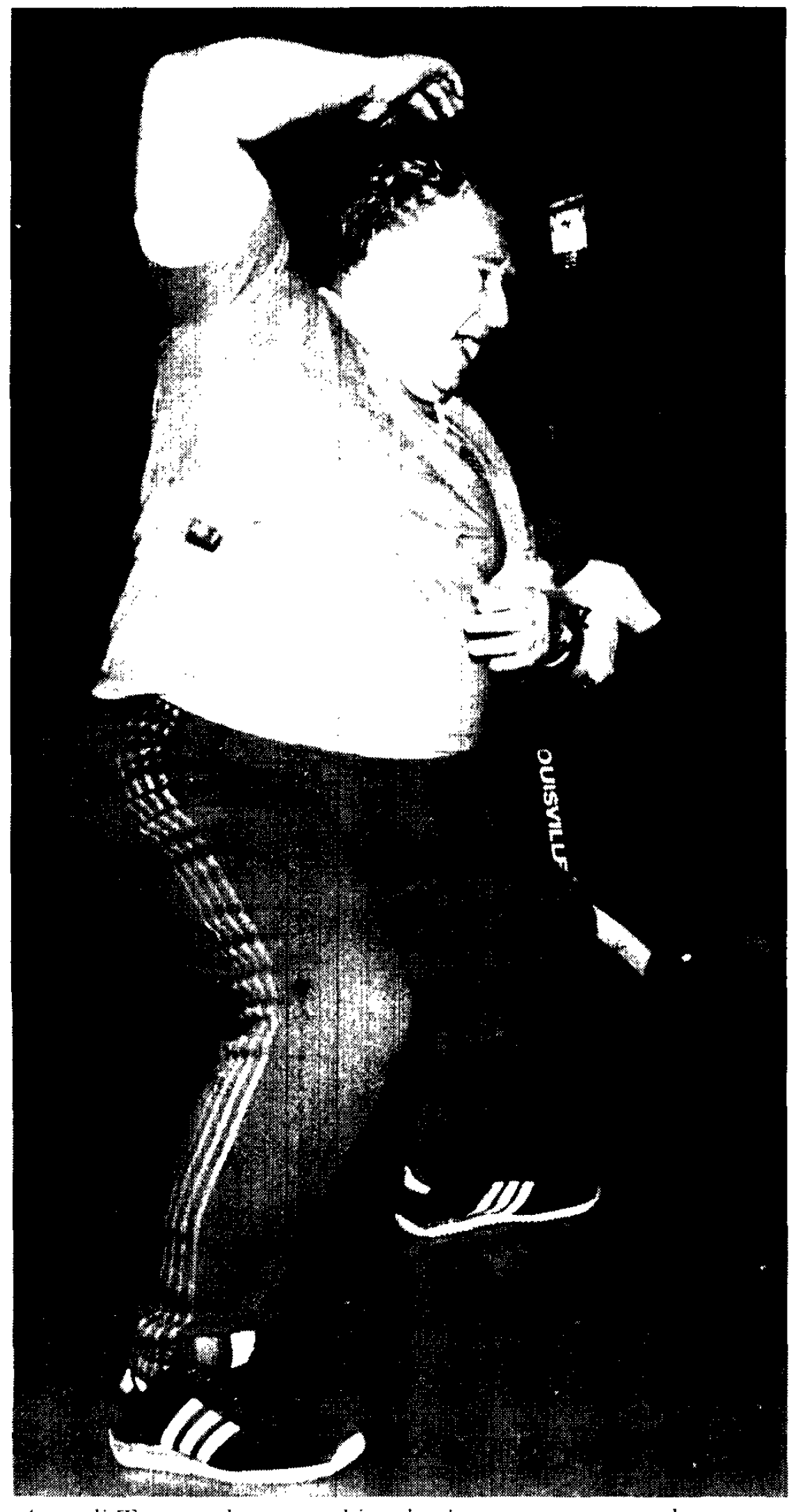
Путь домой из Ванкувера лежал через Торонто, где с Тарасовым встретился один из генеральных менеджеров ХК А.Дж.Уль. В беседе с ним Тарасов настойчиво подчеркивал благоприятность сложившейся обстановки (изоляция Канады от МФХЛ) для возобновления прямого диалога спортивного руководства СССР с НХЛ.
На пороге неведомого
Хоккейная команда ЦСКА в первые дни сентября 1970 г. проиграла в финальном матче приза газеты «Советский Спорт» московскому «Спартаку» 4:6. Старший тренер Б.Кулагин пытался по ходу турнира наигрывать новые составы звеньев, а также активно привлекал молодых Анисина, Лебедева, Бодунова, Трунова, Тюрина, Глухова, Ю.Блинова и др. Анатолий Фирсов был объединен в звене с Мишаковым и Моисеевым – партнерами не самыми подходящими для его манеры действий и игровой роли в команде. Главный хоккейный тренер Вооруженных сил, по причинам, упомянутым выше, на некоторое время ослабил внимание к событиям в команде, которая вступила в начавшийся чемпионат страны.
Старт этого первенства оказался для ЦСКА не самым удачным: армейцы в первом матче уступили «Динамо» (М) и начали отставать от него в турнирной таблице, причем отставание медленно увеличивалось. В конце первой декады октября армейцам предстоял финал (из 2-х матчей) в борьбе за Кубок Европейских чемпионов со «Спартаком». В переполненных Лужниках первая встреча завершилась вполне закономерным поражением ЦСКА 2:3, и его соперник был непреклонен в стремлении одержать общую победу. Повторный матч был полным повторением предыдущего: армейцы выглядели неубедительно, «Спартак» уверенно выигрывал к 45 минуте со счетом 5:3. Беспомощность Б.Кулагина по ходу матча и его растерянное поведение у скамейки игроков для всех было очевидно. Анатолий Тарасов, наблюдавший игру с трибуны, в тот самый критический момент спустился к своей команде, но тактично расположился за скамейкой игроков. Не видя того, что происходит на площадке, Тарасов непрерывно и яростно инструктировал сидящих на скамье хоккеистов, двигаясь за их спинами взад-вперед. Особое внимание в те роковые минуты он уделил «накачке» А.Фирсова и Б.Михайлова. И команда ЦСКА преобразилась: в течение 10 минут она переломила ход поединка, забив обескураженному «Спартаку» пять (5) безответных шайб!
Столь, казалось бы, мимолетный эпизод продемонстрировал всей стране, насколько велика и многообразна роль личности А.Тарасова для успеха команды и всего отечественного хоккея. Не обошли вниманием этот случай и зарубежные наблюдатели. В ряде спортивных изданий (Швеции, Финляндии, ЧССР) этот эпизод пусть и мельком, но был красочно описан. Канадский атташе по культуре отправил из Москвы в штаб-квартиру ХК специальную справку о завершившемся финале Кубка Европейских чемпионов по хоккею.
За этой славной победой последовал ряд очередных поражений ЦСКА в чемпионате страны. Отставание от московского «Динамо» возросло до 10 очков и стало критическим. В армейской команде ощущались апатия и вполне уловимое неприятие «новых» форм тренерского управления. Руководство Минобороны и армейского спорта, откровенно выразив свою неудовлетворенность состоянием дел в хоккейном клубе, потребовало отставки Кулагина. На место начальника и старшего тренера ЦСКА 16 ноября вновь был назначен А.Тарасов. И, несмотря на общий спад в игре, в ближайшем же матче с «Динамо» 19 ноября армейские хоккеисты убедительно взяли верх над соперником со счетом 6:2! С этого дня началась долгая, но непреклонная погоня за динамовцами в турнирной таблице, которая в итоге (к маю месяцу) завершилась победой ЦСКА в чемпионате СССР с отрывом в 7 очков.
В декабре 1970 г. на заседании ученого совета по защите диссертаций ГЦОЛИФК (Институт физической культуры) А.В.Тарасов успешно защитил диссертационную работу, став кандидатом педагогических наук. Его исследование было посвящено новым методам подготовки хоккеистов международного класса и форсированным способам повышения их мастерства. Тренер сделал отличный подарок к своему дню рождения – Тарасову 10 декабря исполнилось 52 года. Все это происходило на фоне международного хоккейного турнира на приз газеты «Известия». Сборная СССР заняла на нем второе место, проиграв ЧССР 1:3. Поскольку Канада самоустранилась из международной хоккейной жизни, традиционного (ранее ежегодного) декабрьско-январского турне сборной СССР в страну кленового листа в планах команды быть не могло. Подготовка к чемпионату мира 1971 г. ограничилась спарринг-матчами с командами на территории Европы – в Чехословакии, Финляндии и Швеции.
Готовя сборную к очередному чемпионату мира, А.Тарасов сетовал на положение, в котором оказался весь европейский хоккей и, особенно, сборная СССР. Вынужденная вариться в соку хоккейной кухни европейского континента, наша команда утратила в лице хоккея Канады привычный и регулярный раздражитель. Именно в соревновании с этим стилем игры быстрее и лучше всего прогрессировал советский хоккей, получал качественно лучший стимул для совершенствования. Тарасов не скрывал своей тревоги в связи с неизбежным застоем в игре советской команды, для которой даже высококлассные сборные Европы, прежде всего ЧССР, не являлись уже достаточным и желанным «лакомством». Несмотря на победное превосходство команды Чехословакии по совокупности всех официальных встреч за последние 2,5 года.
Сборная команда Советского Союза выиграла очередной чемпионат мира по хоккею 1971 г. без блеска, даже с трудом (в отличие от видимой легкости предыдущего успеха 1970 г.). Победа эта выглядела скучной и невыразительной. Мы снова уступили команде ЧССР по совокупности 2-х встреч (ничья 3:3 и поражение 2:5), но по сумме очков были впереди. В элитной группе «А» МФХЛ из 6 команд доминировали европейские страны. Сборная США после годичного перерыва была лишь тенью североамериканского хоккейного стиля. Отсутствие Канады превратило чемпионат мира в чемпионат Европы. Предсказание Тарасова о стагнации хоккея на чемпионатах мира неумолимо сбывалось. Это же касалось и обеих непримиримых хоккейных школ, находящихся по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что в сезоне 1970-71 гг. ни одна канадская команда не выступала за пределами Североамериканского континента. И ни одна команда из стран Европы, будь то клуб или национальная сборная, не могла похвастаться визитом в Канаду.
В этих условиях, ощущая дефицит заокеанского стимула для прогрессивного развития советского хоккея и усиления игры сборной СССР, Тарасов активно искал внутренние резервы для движения вперед. Единственным плодотворным источником мог быть только тренировочный процесс. Доведенный до высшей степени сложности и совершенства, постоянно обновляемый, он, в свою очередь, способствовал рождению новых тактических идей и стратегических концепций на победном пути развития Советского хоккея. В первую очередь на базе лучшего клуба страны, своей команды ЦСКА, А.Тарасов усложнил и ужесточил содержание тренировочного процесса. Чередование насыщенных силовыми компонентами скоростных занятий как на льду, так и «на земле», позволяло имитировать и даже гиперболизировать условия канадской атмосферы и манеры действий. Это помогало нашим игрокам вырабатывать особые, устойчивые навыки контригры. Но главным условием этой работы было формирование у игроков манеры уверенных действий для навязывания сопернику собственного, ориентированного на непрерывную атаку и безостановочное движение, стиля игры. Эти нововведения, инициированные в ходе трудной «гонки за лидером» в чемпионате СССР 1970-71 гг. (см. выше), были экстраполированы на межсезонье и последующий период. Предстоящий сезон 1972 г. был, в первую очередь, Олимпийским, и национальной команде предстояло отстаивать свой почетный чемпионский титул.
В мае (19-25) 1971 г. в Советский Союз прибыл с официальным визитом новый молодой Премьер-министр Канады Пьер-Элиот Трюдо. Символизм этого события заключался в том, что руководитель Канады (страны НАТО) был первым крупным политическим лидером Запада, посетившим СССР после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 г. Немаловажно подчеркнуть также, что этот визит начался на следующий день после завершения розыгрыша Кубка Стэнли, главного приза канадского хоккея, который в финале завоевали хоккеисты знаменитого «Монреаль Канадиенс». А в Советском Союзе хоккейный сезон завершился почти месяцем раньше (29 апреля). Канадский лидер не имел возможности увидеть заключительный матч первенства страны, в котором ЦСКА победил «Спартак» 8:4. И все же хоккей не мог не быть одной из тем, обсуждавшихся с Председателем Совета министров СССР А.Н.Косыгиным. Именно канадская сторона, несмотря на её бойкот международного хоккея с начала 1970 г., искала путей к скорейшему восстановлению контактов в этой области двухстороннего сотрудничества с СССР (В.М.Суходрев - личное сообщение, 1987).

Планируя подготовку к сезону 1971-72 гг. и учитывая его специфику (см. ниже), А.Тарасов задумал принципиальные изменения в составе команды ЦСКА (а, следовательно, сборной СССР). Предполагаемые перестановки в ведущих звеньях по расчету тренера должны были усилить атакующую мощь команды, что было принципиально для предстоящих игр с профессионалами. Тарасову удалось убедить игроков ведущей тройки нападения Михайлова, Петрова и Валерия Харламова в полезности его перехода к связке Фирсов - Викулов. Даже допуская высоковероятное ослабление первого звена (куда включили прогрессирующего Ю.Блинова), руководитель команды не сомневался в сокрушительной силе вводимой им обновленной системы функциональных обязанностей целой пятерки игроков. Харламову и Викулову предназначалась роль выдвинутых остроатакующих форвардов. Фирсову и молодому защитнику Лутченко (или его коллеге по амплуа Цыганкову, в зависимости от тактической ситуации) отводились особенно важные амплуа широкоманевренных полузащитников. Опытному лидеру и столпу обороны Александру Рагулину вменялась обязанность опорного защитника-стоппера. Такая нестандартная схема расположения (2+2+1) и круг новых обязанностей пятерки игроков уже были знакомы Викулову, Фирсову и Рагулину по чемпионату мира 1967 г., где квинтет с их участием (включавший также Э.Иванова и В.Полупанова) забил более половины (а пропустил наименьшее число) всех голов сборной СССР, ставшей тогда победителем.

Готовясь к новому сезону с конца июля, ЦСКА принимал в своем летнем лагере старшего тренера олимпийской сборной США Мюррея Уильямсона, давно изучавшего тренировочные методы Тарасова. Уезжая домой, американский тренер официально пригласил команду ЦСКА для серии матчей с национальной олимпийской сборной и университетскими командами США в конце декабря 1971– начале января 1972 года. Советский тренер охотно принял это важное для советских хоккеистов предложение – возможность проверить себя на североамериканских хоккейных полях (даже с заведомо более слабым хоккеем США, где, правда, университетские команды составляли преимущественно канадцы) вносила новое качество подготовки к турниру Олимпиады.
Новый хоккейный сезон, начавшийся в сентябре был во-первых олимпийским (Зимняя Олимпиада 1972 г. в Саппоро), а во-вторых, первым в истории МФХЛ сезоном, когда чемпионат мира проводился как отдельное от Олимпийского турнира соревнование. По причине такого новшества, но, прежде всего, из-за сохраняющейся вероятности долгожданных встреч с профессионалами НХЛ (меморандум Косыгина – Трюдо вступит в силу через месяц, см. ниже), для игр в наступающем сезоне были сформированы две сборные СССР. Сильнейший состав (по-прежнему руководимый Чернышевым и Тарасовым), костяк которого составляли чемпионы мира 1971 г., должен был готовиться к чемпионату мира в Праге, а затем и играм с профессионалами. Ради этого оба тренера поначалу готовы были поступиться очередным званием Олимпийских чемпионов. Второй состав, названный олимпийской сборной, отдали на попечительство В.Боброву и Н.Пучкову. Это решение о сборной-дублере (согласно давним рекомендациям А.Тарасова) было принято коллегией Спортивного комитета СССР при безусловном согласии Федерации хоккея. Многие считали, что «вторым составом», названным олимпийским, можно было без участия Канады (помним, что она самоустранилась от соревнований МФХЛ с 1970 г.) победить на Олимпиаде в Саппоро. Ограждая при этом сильнейший состав от возможной дисквалификации МОКом и МФХЛ в случае их соревнования с канадскими профессионалами и утраты уже давно ставшего формальным статуса любителей.
Первыми смотринами новых сочетаний звеньев стал международный турнир на Приз газеты «Советский Спорт», проходивший в августе-сентябре. ЦСКА победил, обыграв всех своих (в том числе титулованных – Олимпийскую сборную, «Динамо /М/, «Крылья Советов», ЗКЛ [Брно]) соперников. Из 50 забитых армейцами голов (в 7 матчах) 20 провела тройка Петрова, а 19 - Викулов, Фирсов и Харламов. Формальное цифровое сопоставление результатов свидетельствовало о равенстве сил этих микрокоманд.
Во второй половине октября 1971 г. состоялся официальный визит в Канаду Председателя совета министров СССР А.Н.Косыгина, первый визит советского руководителя в одну из стран блока НАТО с августа 1968 г. («оккупация Праги»). Неоднократные встречи и переговоры с уже хорошо знакомым Премьером Канады П.-Э.Трюдо завершились выпуском 27 октября совместного Коммюнике о двухсторонней кооперации в промышленной, научно-технологической, культурной и других (!) областях. В перечень взаимных интересов в «других областях» входило продолжение и углубление контактов в области хоккея. Сам факт достижения согласия на высшем межправительственном уровне служил сигналом для разных руководителей канадского хоккея о снятии напряженности в переговорном процессе по встречам русских хоккеистов с представителями НХЛ. В ноябре Спорткомитет СССР принял к рассмотрению пояснительную записку аппарата Совета министров СССР по материалам Советско-Канадского коммюнике. В ней были даны прямые указания на «возобновление соревнования двух стран в области хоккея на самом высоком уровне» (В.М.Суходрев - личное сообщение, 1987).

Очередным важным событием подготовительного периода хоккейных команд СССР был московский международный турнир Приз «Известий», на котором выступала первая сборная. Её соперниками были национальные сборные Финляндии, Чехословакии и вторая сборная Швеции. В те же дни олимпийская сборная СССР под руководством Боброва проводила серию игр в Скандинавии и дважды подряд проиграла (3:5 и 3:5) национальной команде Швеции, которую готовил к Олимпиаде канадский тренер Билл Харрис. В составе нашей сборной выступали спартаковская пятерка А.Якушева, тройка В.Анисина из «Крыльев Советов» (уже руководимых Б.Кулагиным), сильные игроки СКА, «Динамо» и «Химика». Принимая во внимание еще и поражение (2:4) сб. СССР от Финляндии в Москве, можно понять, почему в те дни произошел резкий и окончательный отказ Спорткомитета от идеи участия в Олимпиаде команды-дублера. Было решено направить в Саппоро сильнейший состав из игроков обеих сборных, определяемый и ведомый тренерами Чернышевым и Тарасовым. Рисковать хоккейным золотом Олимпиады в спортивном руководстве страны никто не хотел.
Перед самым Новым годом (1972-м) в турне по США отправилась команда ЦСКА. Это было историческое событие, поскольку впервые армейская клубная команда из СССР посетила Северную Америку. В этом турне армейцы провели 7 матчей, победив в 6 из них (1 игра была проиграна чехословацкой команде «Дукла»). В 5 матчах была разгромлена (забита 51 шайба) олимпийская сборная США из которой после Саппоро в клубы НХЛ были рекрутированы 8 игроков. Из всех 60 забитых армейцами голов пятерке Фирсова принадлежали 23, а квинтету Петрова 17. Итоги турне окончательно убедили Тарасова (да и его коллегу Чернышева) в правильности изменений в армейских звеньях для усиления атакующего потенциала сборной СССР.
Перед отъездом из США Тарасов добился встречи (уже повторной) с одним из директоров КЛХА Фрэдом Пейджем (Fred Page), на которой он подписал предложение (оно было составлено канадцами на английском языке в присутствии переводчика советской делегации) от советской стороны о проведении открытой серии встреч с представителями NHL (НХЛ) (А.В.Тарасов - личное сообщение, 1979). Сославшись на необходимость обсуждения документа на заседании КЛХА, Ф.Пейдж, естественно, уехал в Канаду без определенного ответа. (07.02.1972)
Пока армейцы (и другие «сборники» в составах своих клубов) выступали в новогодние каникулы за рубежом, в Москве происходили дипломатические события, во многом повлиявшие на подготовку серии встреч с хоккеистами НХЛ. Вторым секретарем посольства Канады в Москве работал Гарри Смит (Garry Smith), недавний выпускник Glendon College York University в Торонто (Онтарио) по специальности «международные отношения». Смит был направлен на эту должность в Москву по завершении дополнительной подготовки в Объединенном Разведывательном Бюро (ОРБ) НАТО в Лондоне. Кроме выполнения своих основных обязанностей атташе по культуре, он активно устанавливал знакомства с известными представителями прессы и спорта. Одним из его знакомых стал основатель турнира Приз «Известий», руководитель спортивного отдела этой газеты Борис Федосов. Однажды Смит (от имени своего посольства) напросился на встречу с ним под предлогом обсуждения возможных игр наших хоккеистов с профессионалами из НХЛ. После знакомства в теплой и непринужденной обстановке одного из московских ресторанов, Смит попросил Федосова организовать ему посещение Спорткомитета СССР. Канадский атташе собирался продемонстрировать заинтересованным чиновникам фильм о финальном матче за Кубок Стэнли 1971 г. Факт совершенно беспрецедентный в советско-канадских дипломатических отношениях. Эта полуторачасовая видеозапись отображала решающую (7-ю) финальную игру, состоявшуюся в Чикаго между командами «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэк Хоукс». В той весьма драматичной встрече со счетом 3:2 победил «Монреаль». Показ фильма состоялся, и главным его эффектом было необычайно сильное впечатление от яркой игры участвовавших в том матче Б.Халла, С.Микиты, Т.Эспозито, Ф.Маховлича, К.Драйдена, Ж.Беливо, А.Ришара и других.
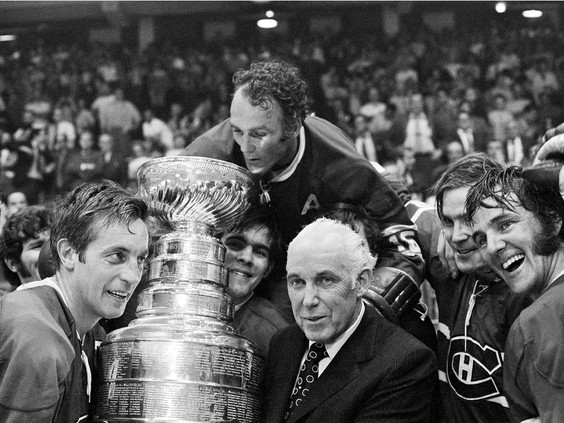
На демонстрации фильма (21 декабря 1971 г.) присутствовали работники Спорткомитета и ФХ СССР (В.Коваль, А.Старовойтов, В.Сыч и др.), сотрудники департамента США и Канады МИД СССР, некоторые ответственные работники (А.Яковлев, А.Черняев) и консультанты (А.Бовин, Г.Арбатов) международного и идеологического отделов ЦК КПСС (Б.А.Федосов - личное сообщение, 1981).
То, что наблюдали на видеозаписи советские госчиновники, было одной из ярких страниц в более чем 50-летней истории НХЛ. Монреальцы по ходу серии уступали 1:3, но догнали «Хоукс», сравнявшись по победам (3:3). Завершающий матч плей-офф проходил в Чикаго. В монреальском клубе царила крайне нервная обстановка – назначенный двумя матчами ранее новый тренер МакНил (McNeil) испытывал откровенное неодобрение ветеранов за неиспользование в игре Анри Ришара (Pocket Rocket – «Карманная Ракета», младший брат Мориса Ришара). С его возвращением на площадку «Монреаль» в ключевом поединке обрёл сплоченность и проявил необыкновенную устремленность к победе. Уступая в счёте 1:2, канадский клуб переломил ход поединка, а два гола 35-летнего А.Ришара принесли команде заветный Кубок. Сразу после победы капитан Жан Беливо (достигший 40-летия) торжественно завершил карьеру. Новым капитаном был избран Анри Ришар и в последующие 4 своих сезона сделался (как показали последовавшие полвека) рекордсменом НХЛ на все времена – он стал 11-кратным (!!!) обладателем Кубка Стэнли. В наступившем межсезонье 1971-72 гг. «Монреаль» заполучил первым номером драфта Ги Лафлера, а старшим тренером в команду пришёл Скотти Боумэн.
Глава 17
Всё, что происходило со сборной СССР в 1971-72 гг., включая историю создания Олимпийской хоккейной команды, на наш взгляд имеет более глубокие корни и не раскрытые смыслы. Интересы дела (хоккейные, спортивные, даже политические) – не главное, что породило это явление. Чтобы понять его подлинную природу, нам придётся вернуться во времени к периоду начала соревновательного противостояния двух великих хоккейных индивидуумов – Анатолия Тарасова и Всеволода Боброва.

Началось оно с 1949 г., когда В.Бобров перешёл из хоккейной команды ЦДСА в команду ВВС, стал в ней премьером и играющим тренером (с 1950 г.), и так продолжалось четыре сезона. Хотя и до этого, находясь в формальном подчинении у играющего тренера ЦДКА Тарасова, превосходивший всех Бобров, открыто демонстрировал «оппозиционное» отношение к единоначалию тренера. Судьба распорядилась так, что игрок Бобров вынужденно (спортивный клуб ВВС прекратил своё существование) вернулся в ЦДСА под начало тренера Тарасова в сезоне 1953-54 гг., и до окончания карьеры игрока был главным фрондёром в клубе. В годы нашего дебюта в мировых чемпионатах он три сезона подряд оставался лидером и бессменным капитаном сборной СССР (где Тарасов тогда не работал), хотя физические кондиции его возраста и рецидивировавшие травмы уже всё меньше позволяли поддерживать требуемую для премьерной игры спортивную форму. В 35-летнем возрасте (1957 г.) Бобров закончил свою игровую карьеру. Как в клубе ЦДСА, так и в сборной команде Советского Союза.
Пути хоккейных «антиподов» на время разошлись. Тарасов, как все знают, приумножал достижения хоккейной команды ЦСКА, «пробовал себя» и в качестве старшего тренера сборной СССР, но без мировых победных результатов (см. выше). Но при этом авторитет ведущего клубного тренера советских хоккейных команд завоевал. Бобров в тот период продолжал выслугу лет (для получения очередных воинских званий) на административных должностях Спорткомитета Министерства обороны СССР. К активной работе в командах стремления не проявлял, в отличие от своих как хоккейных, так и футбольных соратников.
Важно подчеркнуть, что это был период очевидного наступления «спортивной оттепели» - активного развития спортивных обществ, при их нарастающем государственном финансировании. В игровом спорте всегда благополучно существовали милитаризированные клубы (ЦДСА, недавно ВВС, «Динамо» и СКА различных городов). Но в конце 50-х - начале 60-х стали преуспевать и спортивные коллективы профсоюзов («Крылья Советов» и «Спартак» в хоккее) и промышленных предприятий (клубы «Торпедо» в футболе и хоккее – Москва и Горький соответственно, как самые наглядные примеры). В гражданской части советского общества через 15 лет после чудовищной войны накопилась естественная и понятная усталость от нескончаемых образцов воинского служения в решении уже текущих задач мирной жизни. В руководящих спортивных органах страны всячески осваивались новые формы финансирования и развития как спортивного движения в целом, так и добровольных спортивных обществ невоенного подчинения. У всех неизгладимой оставалась в памяти трагическая история разгона великой команды ЦДСА, гордости и славы отечественного футбола послевоенной поры. Мрачный след жестокого сталинского наказания футболистов, проигравших Олимпиаду в Хельсинки (1952) югославским спортсменам. История, повторения которой уже никогда не должно было случиться.
Московский хоккейный «Спартак» стал самым ярким примером дерзкого и заслуженного восхождения на спортивный Олимп команды, пришедшей, образно выражаясь, «из народа». Хотя в 1957 г. первым ниспровергателем десятилетней гегемонии армейско-динамовского хоккея стала самобытная московская команда «Крылья Советов» - тоже «профсоюзная» спортивная организация. Так вот, в уже патриархальном, богатом ещё довоенными традициями обществе «Спартак» возник новый тип коллектива. В нём хоккеисты новой формации (помните Главу 1962 г. Дуумвират) бесстрашно строили игру на импровизационной основе, их молодость и выносливость позволяли неустанно утверждать открытый атакующий хоккей. Опытный и мудрый тренер А.Н.Новокрещёнов (он блестяще исполнил свою роль наблюдателя-аналитика в первом турне по Канаде), принявший молодую команду, за два сезона привёл её к званию чемпиона СССР. Всем хорошо известно, что неудержимой движущей силой этих и будущих побед хоккейного «Спартака» были нападающие Вячеслав Старшинов и братья Борис и Евгений Майоровы. Так случилось, что тренер Новокрещёнов не стал тренировать команду более 3-х лет и покинул её (хотя через десятилетие возвращался в «Спартак» в качестве начальника команды), завоевав своим достижением большой тренерский авторитет.

Перед самым окончанием сезона 1963-64 гг. старшим тренером московского «Спартака» был назначен Всеволод Бобров. Спортсмен, который 10-15 лет назад был абсолютным премьером советского хоккея, вернулся к нему в почти забытом, не очень знакомом для себя качестве - тренером. Оценивая, спустя почти 60 лет, его решение, анализируя выступления, интервью и воспоминания Боброва, многочисленные публикации о нём, не вполне удаётся однозначно понять мотивацию такого поступка. Всем было известно его довольно скептическое отношение к самому смыслу, точнее, к важности роли тренерской профессии, особенно в хоккее. В своих воспоминаниях В.Бобров в превосходной степени отзывается о своём наставнике в ЦДКА, великом футбольном тренере Б.А.Аркадьеве, детально описывает и отдаёт дань его уникальным тренировочным занятиям. А вот в оценке роли хоккейных тренеров, прежде всего своих «наставников», нескрываемо сквозит диверсификация его отношения в зависимости от персоналий и времени. Например, подчёркнуто уважительное отношение к А.И.Чернышеву премьер нашего хоккея с шайбой высказывал и демонстрировал только до окончания хоккейной карьеры игрока. Своего же соратника-игрока и одновременно тренера А.В.Тарасова в командах ЦДКА (1947-49) и ЦДСА (1953-1957) Бобров демонстративно недолюбливал и не упускал случая вынуждать спортивное руководство при комплектовании сборной страны делать выбор между ними двумя в свою пользу. Природу формирования их отношений подробно, максимально объективно и на редкость корректно описал Анатолий Салуцкий в своей книге «Всеволод Бобров» (глава Единство противоположностей).
Вероятнее всего, главным движущим началом в принятии на себя бремени старшего тренера хоккейного «Спартака» было гордое стремление Боброва доказать свою высокую хоккейную состоятельность и в роли тренера. Как мы знаем, это ему удалось – в сезоне 1966-67 гг. «Спартак» (М) под его руководством одержал победу в чемпионате СССР. Спартаковцы в течение трех с половиной сезонов (март 1964 – май 1967 гг.) преследовали ЦСКА в борьбе за чемпионское звание. За этот период команды провели между собой 16 личных встреч: три (3) ничьих, две (2) победы «Спартака», одиннадцать (11) побед армейцев. Как принято излагать в статистических отчётах: +11 =3 ̶ 2 в пользу ЦСКА. И всё же в этом заключительном сезоне очного соревнования со своим антиподом Бобров, удовлетворённый своей долгожданной победой в чемпионате, не смог уберечь команду от проигрыша в последней игре с ЦСКА. Через три недели после сокрушительного поражения (3:7) в календарном матче, армейцы в тяжелейшей борьбе выиграли у соперника принципиальный финал Кубка СССР (2:0), оставив пальму первенства в сезоне за собой.
Столь подробный ретроспективный экскурс представляется нам важным для глубокого понимания советско-канадских хоккейных отношений 1972 г. Как раз тогда обеим странам предстояло возобновить прервавшиеся на два с лишним года встречи хоккеистов. И в этих обстоятельствах история хоккейного тренера В.Боброва особенно важна, так как во многом предопределила итоги величайшего хоккейного сражения ХХ века, серии матчей СССР – Канада (НХЛ) 1972 г.
После хоккейной одиссеи в «Спартаке» Всеволод Михайлович снова обратил свой тренерский взор на большой футбол. Почему «снова»? Потому что в сезоне 1963 г. он работал старшим тренером одесского «Черноморца» во втором дивизионе (6-е место) и не смог вывести клуб в первую лигу. И вот теперь он взялся «поднимать пошатнувшийся престиж» армейского футбола. Хотя тот был и не столь плох в те годы, пока великий спортивный мэтр шёл к своей хоккейной победе. Так в 1964 г. футбольный ЦСКА до самого конца первенства претендовал на звание чемпиона СССР. Лишь в последних трёх турах по очкам уступил двум другим лидерам. А в следующие 2 сезона занимал 3-е и 5-е места. Но вот с приходом нашего героя показатели армейских футболистов снизились – 9-е, 4-е и 6-е места. В.Бобров был крайне неудовлетворён и раздосадован такими результатами. Тренерский пост некогда великого футбольного клуба, которому он лучше многих создавал бессмертную славу, Бобров покинул самостоятельно сразу после окончания (10.XI.1969) чемпионата. Шёл тот самый 1969 год, сезон которого оказался во многом поворотным для нашего хоккея. Как мы уже писали, 15-16.XI.1969 в Монреале проходило рабочее заседание МФХЛ, что произошло (такое совпадение) совсем вскоре после отставки Боброва. Участвовавший в нём советский эмиссар А.Старовойтов (официально представлявший Федерацию хоккея СССР!), высказывал там сомнения по поводу возвращении «отставленного и нездорового» А.Тарасова к руководству национальной команды (15.11.1969) на очередном чемпионате мира. Здесь мы видим, как возобновляет свою работу административный анти-Тарасовский механизм, и что приобретает он уже эшелонированный характер.
В Спорткомитете СССР уже более года начальником Управления спортивных игр работал В.Л.Сыч, пришедший туда из ЦК ВЛКСМ. Не по годам властный и жесткий, он постарался с самого начала работы приучить всех руководителей сборных команд к своему постоянному надзору и участию в жизни этих коллективов. Хоккей, как наиболее преуспевавшая на международной арене «советская» игра, стал объектом самого пристального внимания В.Сыча. Многим известен возникший в тот период его конфликт с А.Тарасовым, часто описываемый в хоккейной мемуаристике. В то же самое время сотрудниками Отдела хоккея в спорткомитете были уже известный нам А.Старовойтов и Кирилл Роменский,
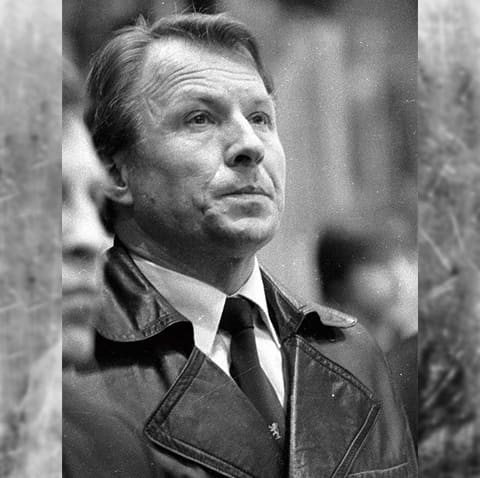
(ранее возглавлявший отдел спортивных игр Московского совета ДСО «Спартак»), оба одновременно являвшиеся Ответственными секретарями Федерации хоккея СССР. Наконец в феврале 1970 г., когда стало очевидно, что сборная СССР не участвует в чемпионате мира в Канаде, В.Бобров избирается членом Президиума Федерации хоккея СССР. Тем самым, при поддержке близких ему соратников и коллег в инстанциях, с одобрения и при содействии руководства Спорткомитета СССР Бобров оказывается в положении реального претендента на роль тренера сборной СССР по хоккею.
Здесь необходимо снова вернуться немного назад, переключив наше внимание на особенности подготовки Канады к чемпионату мира 1970 г. (Монреаль, Виннипег). Насколько высока была ставка родины хоккея на победу в этом соревновании, повторяться нет необходимости. Усилия министра Джона Мунро в ходе подготовки к такому событию были беспрецедентными. После того, как желанное отстранение А.Тарасова от руководства сборной СССР состоялось весной 1969 г., в лагере канадцев возник интерес к вопросу о вероятном преемнике на освободившийся пост. А, следовательно, и о возможностях продвижения на эту роль выгодного (удобного) для Канады претендента. Единственным компетентным в этом вопросе канадцем считался ранее упомянутый нами профессор Ллойд Персиваль (Lloyd Percival). Он уже был привлечён к подготовке сборной Канады, руководимой Джеком Маклеодом, и не скрывал, что у него есть способ преодоления «плана Тарасова» (позднее мы ещё вернёмся к этому понятию). Но в не меньшей (если не в большей) мере Персиваль был интересен менеджменту сборной Канады (а в него уже входил А.Иглсон) и как знаток тренерского корпуса советского хоккея. Уже осенью, когда национальная команда отправилась в Советский Союз на турнир газеты «Советский Спорт» (см. выше), Дж.Мунро попросил работников соответствующего профиля дипломатических служб Канады проконсультироваться с Ллойдом Персивалем (Bob Lemieux – личное сообщение, 2009, 2013) по поводу потенциала сборной СССР. Гуру-тренера удалось склонить к откровениям (часть которых он позднее даже изложил в печати, Toronto Sun, July, 1972), воспользовавшись обидной для Персиваля многолетней недооценкой его роли официальными хоккейными чиновниками. «Персиваль знал о русском хоккее больше, чем кто-либо другой в Канаде. Он был более чем готов поделиться своими знаниями. Он встречался с Тарасовым и рядом других советских тренеров и официальных лиц в 1960-е годы, изучал их игры и вел статистику по всем игрокам сборной. Ллойд понимал их методы обучения, потому что они были такими же, как и у него.
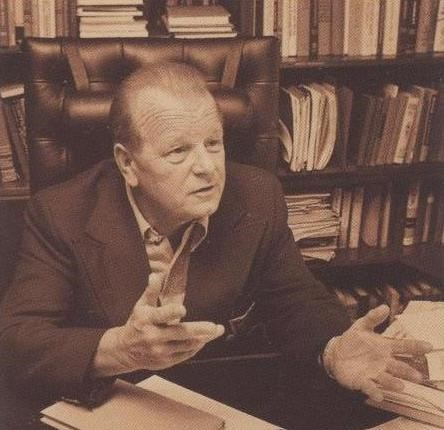
Он считал, как всякий эгоистичный тренер, что знает что-то, что другой, такой, например, как Тарасов, не знал. Это то, что он надеялся доказать с командой Канады в 1970 году (Lloyd Percival: coach and visionary. G.Mossman, 2013). Гипотетически обсуждая вопрос возможного преемника Тарасова, Персиваля попросили назвать вариант, который был бы наиболее подходящим для Канады. Профессор сразу же указал на Боброва. Персиваль был хорошо знаком с А.Тарасовым, который посещал его Институт Фитнеса («When the Russian team came here in 1969, Tarasov spent up to 14 hours here with me» - Когда советская команда приезжала сюда в 1969 году, Тарасов провёл в моём институте 14 часов). Он немало знал и о Боброве и считал, что оба сделали многое для бурного прогресса хоккея в Советском Союзе. И все же, Персиваль подчеркивал, что вклад этих людей был несоизмерим – именно идеи и деятельность Тарасова лежали в основе построения в СССР концептуально иного, чем канадский хоккея. Поверхностный взгляд на тренерское соревнование (бывшее непродолжительным) Тарасова и Боброва создавал иллюзию и видимость конкурентности. Поэтому вероятность назначения спортивной администрацией именно Боброва была практически 100%-ой. Персиваль пояснил, что для Канады (шансы на победу которой он расценивал как 50 на 50) Бобров был бы наилучшим вариантом. По ряду соображений. Во-первых, Бобров никогда не был в Канаде – ни как игрок, ни, тем более, как тренер. Тренируемые им ранее команды ни разу не встречались с представителями канадского хоккея (исключение – матч в Москве с «Шербрук Биверс» в 01.1966). Он никогда не видел игр команд НХЛ. Лично как игрок Бобров соревновался с канадцами только трижды и давно в 1954-56 гг. Канадские клубные команды тех лет (исключая, пожалуй, «Пентинктон» 1955 г., который и «обнулил» Боброва) были откровенно не лучшими для своего времени даже в Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации. Через 10 лет им на смену пришли сборные коллективы из лучших любительских и студенческих команд Канады, исповедовавшие современный хоккей. И эти намного более сильные команды терпели непрерывные поражения от команды Чернышева и Тарасова. Наконец, к началу 1970 г. Бобров в течение 3 предыдущих лет не имел какой-либо хоккейной тренерской практики. Все эти обстоятельства, рассуждал Персиваль, в соревновании с Канадой работали бы на существенное ослабление потенциала хоккейной сборной СССР при возможном её руководстве Бобровым.
В советской административной хоккейной иерархии (Спорткомитет и Федерация хоккея СССР) придерживались, естественно, иного мнения. В обстоятельствах сохранившегося прежнего тренерского состава нашей национальной команды, на фоне отказа КЛХА от соревнований, проводимых МФХЛ, в кулуарах высокого спортивного и хоккейного руководства начали возникать пессимистические прогнозы и суждения: об усталости (от побед!?) тренерского штаба сборной СССР по хоккею, об её менее выразительной игре и мучительных победах на чемпионатах (1970-71 гг.). Запрет МОК на участие профессионалов в Олимпийских играх, заведомый отказ хоккейной сборной Канады от соревнования в очередной зимней Олимпиаде (Саппоро, 1972) создали небывалые условия для советской хоккейной администрации. Тем более, что в зимнем сезоне 1972 г. хоккейный турнир Олимпиады и чемпионат мира по хоккею впервые проводились раздельно. Появилась удобная (и вполне обоснованная) возможность создать две сборные команды для раздельного участия в названных соревнованиях.
Идея создания дублёра для сборной СССР по хоккею возникла у Чернышева и Тарасова давно. После олимпийской победы 1964 г., отстаивая право на соревнования с командами НХЛ, тренеры утверждали, что располагают достаточным ресурсом игроков для формирования двух равных по силе команд. Тогда одна из них (её игроки), будучи готовой к дисквалификации в соревнованиях любителей (прежде всего Олимпийские игры, но и чемпионаты мира), могла бы уверенно соревноваться с профессионалами. Как выражались в НХЛ, участвовать в открытых международных турнирах. Конечно, такой формат действий нашего хоккея в рамках Уставов международных спортивных организаций мог носить однократный характер. Но ради начала состязаний с профессионалами, как прецедент он вполне годился. И вот в сезоне 1970-71 гг. на Федерации хоккея СССР был поставлен вопрос создания Олимпийской сборной СССР по хоккею. Обоснованием этого шага конечно была благообразная «забота» о «наилучшей организации работы по подготовке резерва кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх и чемпионате мира и Европы 1972 г.»
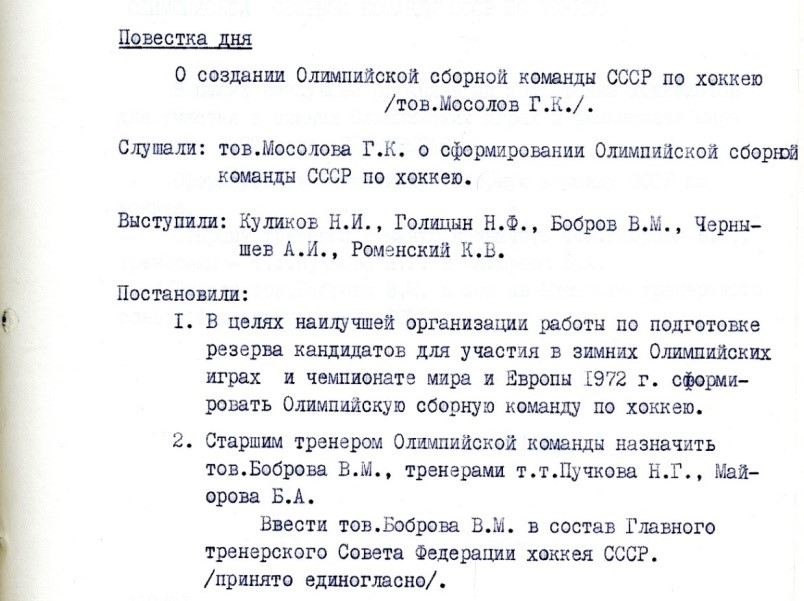
Постановление федерации было правильным и предполагало решение объективных задач как непростого сезона, так и условий дальнейшего существования советского хоккея на международной арене. В своём обосновании необходимости такого шага В.М.Бобров писал: «Решение о создании в нашей стране олимпийской сборной по хоккею не случайно. Ведь теперь олимпийский турнир устраивается отдельно от чемпионата мира и Европы. Стало быть, вместо одного серьёзного экзамена сборная СССР держит два. Но мыслимо ли это, если сегодняшний хоккей требует от игрока более изощренной техники, более осмысленной тактики коллективной борьбы, наконец, постоянного, непрерывного и разумного передвижения по всей площадке, иначе говоря, больших нагрузок, сильных затрат физической и нервной энергии?
Отсюда и необходимость в создании олимпийской сборной. Имея две сборные – первую и олимпийскую, наш хоккей получит хорошую возможность проверить большую группу хоккеистов. Маневрируя резервами, тренеры определят составы команд на Олимпийские игры в Японии и чемпионат мира в Чехословакии. Сейчас трудно назвать контуры олимпийской сборной, одним из тренеров которой я назначен. В моих планах – проверка многих молодых хоккеистов. (Внимание! Сейчас самое главное!) Хочется привлечь в состав некоторых чемпионов мира. Не скрываю своей мечты: успешно выступить в Саппоро и продолжить серию побед, начатую ещё первым составом нашей сборной, составом, избравшим меня капитаном» (ХОККЕЙ 71/72, Издательство ФиС, август 1971). Откуда такая уверенность перед самым началом сезона?
Разберём два раздела в позиции Боброва – обоснование и резюмирующую часть. Первая часть не выдерживает критики. В советском хоккее последних 10-12 лет всегда существовала вторая (2-я) сборная команда, которая была и резервом, и полигоном для первой команды. Был даже момент, когда первой руководил Тарасов, а вторую возглавлял Чернышев, испытывая её в тяжелом канадском турне. В итоге такого взаимодействия тренеры наконец создали прекрасный, непобедимый дуэт, добившийся 9-ти непрерывных побед в чемпионатах мира. А вторая сборная все эти годы была донором национальной команды. Работа во второй команде всегда была очень продуктивной. Нередко, в самый последний перед чемпионатом мира момент она пополняла первую сборную сильными молодыми дебютантами, которые надолго закреплялись в составе. Тем самым, создание олимпийской сборной ничего нового в подготовке резервов не вносило, менялось лишь название второй сборной.
А вот резюме Боброва никак логически не вытекает из обоснования. Просто и откровенно, не допуская сомнений, тренер заявляет о своих амбициозных намерениях возглавить сборную СССР на Олимпийском турнире в Саппоро. Не скрывая планов использовать в её составе игроков первой сборной страны. Как вы думаете, каких? Только ирония должна звучать в ответе на такой вопрос: вряд ли лучших, что они могут сделать для победы в Олимпиаде!?
Мы все знаем, что Федерация хоккея СССР являлась общественным представительным органом, всесторонне разрабатывающим вопросы развития хоккея в СССР. Но реализацией этих вопросов, прежде всего, их финансированием и законодательным утверждением ведал Спорткомитет СССР (Управление спортивных игр, Отдел, а потом и Управление хоккея). Вопросы создания и предназначения новых сборных команд первоначально изучались (?), обсуждались и утверждались в соответствующем подразделении Спорткомитета. И уже потом направлялись на согласование к экспертам и их формальное утверждение в Федерации. Нет сомнений в том, что вопрос олимпийской сборной по хоккею стал в Управлении спортивных игр Комитета первой частью плана смены руководства национальной сборной СССР. А Бобров уже знал, что если не до Саппоро, то после Олимпиады ему точно передадут сборную.
Теперь переместимся в Канаду, в тот же временной промежуток – вторая половина 1971 г. Там приближение важнейшего спортивного события четырёхлетия - зимней Олимпиады в Саппоро - никак не влияло на хоккейную жизнь страны, другие события должны были оказать на неё серьёзное влияние.
Советско-канадское коммюнике по итогам переговоров Косыгина и Трюдо недвусмысленно давало понять обеим странам, что матчам советских хоккеистов с профессионалами суждено было состояться (James Hershberg, 2019)
Невиданный масштаб предстоящего соревнования требовал от сторон мобилизации всех сил и служб, традиционно вовлекаемых в любой вид противостояния «двух миров», «двух систем».
Для Трюдо сочетание национальной цели возобновления участия Канады в международных хоккейных соревнованиях с возможностью укрепить отношения с СССР было крайне благоприятным. Однако при этом движение к разрядке с русскими на правительственном уровне сочеталось со стремлением канадцев выставить на международной арене команду, способную победить Советский Союз.
Джону Мунро после заседания канадского правительства пришлось возвращаться к проблеме согласования и уравновешивания интересов всех вовлекаемых сторон. Таковыми были: «Хоккей Канада», созданная Правительством Трюдо организация, представляющая канадский хоккей на международной арене; КЛХА (Канадская любительская хоккейная ассоциация), единственная в Канаде организация, находящаяся в официальных отношениях с МФХЛ, без согласования с которой матчи «любителей» против НХЛ были невозможны; наконец, Ассоциация игроков НХЛ – фактически профсоюз спортсменов, отстаивающий их профессиональные, прежде всего финансовые интересы (в том числе, пенсионное обеспечение) перед владельцами клубов.
Вот здесь необходимо кратко остановиться на событии, от которого содрогнулся весь канадский хоккейный мир. Осенью (13 сентября) 1971 года знаменитый американский финансовый промоутер Dennis Murphy (Деннис Мёрфи) со своим юридическим партнером Gary Davidson (Гари Дэвидсон) объявили о создании новой профессиональной хоккейной лиги на территории США и Канады под названием Всемирная Хоккейная Ассоциация (ВХА, WHA).
Планы и провозглашаемые условия работы ВХА стали прямой атакой на укоренившиеся позиции НХЛ: ослабление составов клубов НХЛ (более выгодные финансовые предложения для перехода игроков с завершающимися контрактами), рекрутирование игроков моложе 20 лет непосредственно из Главной Юниорской (Major Junior) Лиги, размещение новых команд в крупных городах, не принимавших команды НХЛ, и полный отказ от reserve clause (особый «пункт о резерве» в контрактах НХЛ). который кабально связывал игроков с клубами. Эти условия позволили ряду известных игроков НХЛ перейти в привлекательную «лигу-выскочку». Звезда «Чикаго Блэк Хоукс» Бобби Халл уже в начале 1972 г. объявил о подписании рекордного за всю историю хоккея 5-летнего контракта на 2,75 миллиона долларов (1 миллион в первый год). Сегодня, спустя 50 лет, эти цифры могут показаться смехотворными (но если их умножить на коэффициент инфляции, связывающий наши дни с тем временем, то мы получим весьма внушительные 31 миллион долларов). Игрок «Бостон Брюинз» Дерек Сандерсон перешёл в создаваемую «Филадельфия Блэйзерс» за 2,65 миллиона долларов, что на тот момент было самой высокой зарплатой в профессиональном спорте в мире. Вот сколь агрессивной была кадровая вербовочная политика зарождающейся хоккейной лиги.
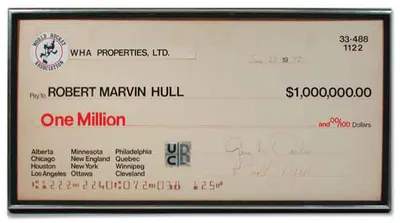
Уже в ноябре 1971 г. ВХА подала в районный (Бруклин) суд Нью-Йорка антимонопольный иск против НХЛ на 33 млн. долларов. Нил Шайни (Neil Shayne), владелец будущего нью-йоркского клуба ВХА, заявил при этом: «Теперь НХЛ понимает, что это настоящая война». Подчеркнём, что меньше чем через год 11 октября 1972 г. первыми матчами начались соревнования ВХА.
Безусловно сам факт появления новой лиги не мог не отразиться на развитии советско-канадских хоккейных отношений. Он несомненно стал побудительным мотивом для Совета Управляющих НХЛ (BOG) безотлагательно начать подготовку к соревнованиям с «любителями». А в контексте нашего повествования этот факт знаменателен тем, что один и главных персонажей описываемых событий памятного для всех 1972 г. Алан Иглсон снова оказался в гуще событий. Уже в конце ноября 1971 г. председатель призывной комиссии ВХА Bill Hunter (Билл Хантер) начал консультации с Директором Ассоциации Игроков НХЛ. Иглсон декларировал якобы нейтральную позицию советника для игроков НХЛ (и молодых рекрутов ВХА), консультирующего их в отношении выбора более выгодного контракта из привлекательных предложений как ВХА, так и НХЛ (23.11.1971). Таким образом, число персональных клиентов адвоката А.Иглсона стремительно увеличивалось. Надо отдать должное усилиям Директора АИНХЛ – средняя заработная плата игроков лиги за истекший год его деятельности возросла на 9%. Это стало предметом пристального внимания Совета Управляющих (BOG) НХЛ, так как Иглсон противопоставлял эту цифру значительно более высокому среднему годовому росту доходов команд (16%) и Лиги в целом (34%!!!). АИНХЛ призывала минимизировать этот разрыв в пользу повышения зарплаты игроков в новом сезоне (08.10.1971). Утечка в информационное пространство столь конфиденциальной корпоративной информации (так называемые «Документы Кэмпбелла») возникла благодаря усилиям известного спортивного журналиста Рона Фишера (Ron Fisher)
По ряду перечисленных выше обстоятельств, в атмосфере возникшей и затянувшейся напряженности BOG НХЛ в преддверии открывающегося и обещающего быть нелёгким сезона 1971-1972 гг. не рассматривал вопрос возможных соревнований с хоккеистами СССР.
В то же время на советской «хоккейной кухне» сразу же после новогодних каникул атмосфера грядущей зимней Олимпиады 1972 накалилась до предела. Отказ спортивного руководства страны от команды-дублёра (Олимпийская сборная) был бесповоротным – к соревнованиям в Саппоро тренеры Чернышев и Тарасов готовили отобранных ими сильнейших игроков. Как, кем и с какой аргументацией принималось это решение, нам сегодня остаётся только гадать. Но вполне логичную, как нам кажется, версию развития тех событий можно допустить и выстроить.
Многим хорошо памятна мучительная победа сборной СССР в чемпионате мира по хоккею 1971 г. (см. выше, Глава 16). Советской делегацией на том турнире руководил В.Сыч, в каждом матче он находился на скамейке игроков, не скрывая своего начальственного статуса. Понятно, что сам итог турнира, прежде всего неспособность победить команду Чехословакии, вызвали у Сыча негодование. И он пришёл к вполне естественному административному выводу, что Чернышев и Тарасов в качестве тренеров главной команды себя исчерпали. Именно такой вывод по итогам своего доклада о чемпионате он представил Председателю ГК по физкультуре и спорту С.П.Павлову.
Павлов всего 3,5 года (чуть менее) был «Министром спорта» в СССР. Ещё ни в одной олимпиаде советские спортсмены под его руководством не участвовали. Победа в приближающемся Саппоро (февраль 1972 г.), дебютной олимпиаде Павлова, была ему необходима как воздух. Все знали, что предыдущие общекомандные победы Советского Союза на зимних олимпийских играх (с 1956 г.) венчались золотом хоккеистов (исключение 1960 г., тренер команды А.Тарасов). Так что, перспективы советской хоккейной команды сильно озаботили Павлова. К этому добавлялась эмоциональная характеристика образа тренера А.Тарасова, который не упускал случая беспощадно и демонстративно критиковать барскую манеру спортивного руководства вмешиваться в работу тренеров.
Кто, кого и как (тренеры руководителей или руководители тренеров) убеждал в необходимости отправлять за победой в Саппоро сильнейший состав, мы доподлинно не знаем. Но было очевидно, что по совокупности факторов команда Боброва уступала закалённому и сплочённому коллективу первой команды. Просто передать её Боброву никто бы за 1,5 месяца до турнира не рискнул (может быть только сам Бобров, но об этом позже). Да и сами тренеры национальной команды стремились (вполне обоснованно и заслуженно!) к праву на третью подряд золотую победу на Олимпиаде (а А.И.Чернышев вообще шёл к 4-му титулу!!!). И никому это право не собирались уступать. Однако мы уверены, что, решив вопрос в пользу последних, спортивное руководство заранее, независимо от качества олимпийских медалей, со всеми оговорило смену тренерского штаба в последующем. Похоже, это было условием руководства для обеих сторон. Бобров был направлен в Саппоро уже как наблюдатель, готовый принимать команду после игр.
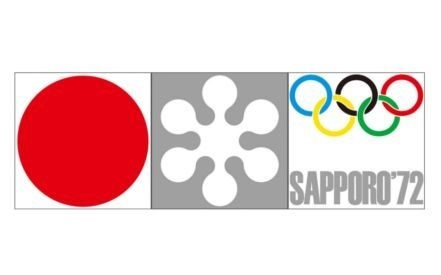
Хоккейный турнир Олимпиады в Саппоро необходимо описать подробнее с акцентом на его психологическую атмосферу. Во-первых, это был как никогда короткий турнир – командам предстояло сыграть по пять (5) матчей. Формат весьма опасный – любая неудача, любой даже единичный сбой может погубить конечный результат. Так почти и случилось с советской командой, когда она уже во втором матче со шведами потеряла важное очко – 3:3. Интересны подробности соревнования со шведами, на которых стоит остановиться.
Но сначала о том, как за день до этой встречи представители Канадского пресс-агентства (CP) сообщили в Саппоро о заявлении Вице-президента МФХЛ канадца Фреда Пэйджа (Fred Page) о возможности открытого соревнования между Канадой и СССР. Мы уже делали короткую ссылку на этого канадского хоккейного администратора в Главе 16 (07.02.1972). Пэйдж был североамериканским заместителем Дж.Ахерна в МФХЛ. Именно от Международной федерации он был ответственным перед МОК за проведение хоккейного турнира на Олимпиаде 1972. Пэйдж делал это заявление от имени КЛХА (CAHA), директором которой он на тот момент являлся. Он признал, что «переговоры с русскими», начатые ещё в предыдущем году, протекают нелегко. Но он рассчитывал, что любые недоразумения будут улажены во время встреч здесь с российским тренером Анатолием Тарасовым.
Канадский вице-президент МФХЛФ заявил, что он не вправе говорить, кто будет в составе сборной Канады, но отметил, что это будут игроки с высоким рейтингом и что та же самая команда сыграет ответный матч в России. Пейдж сказал, что переговоры о возобновлении игр Канады на высшем международном уровне начались между ним и Тарасовым в прошлом году в Европе (Голландия/ФРГ 09.1971?). Последовавшее в ответ (ноябрь 1971) письмо от Канады не дало никаких результатов, но в январе они снова встретились, когда команда Тарасова принимала участие в турнире в штате Колорадо (26-29.12.1971). Пейдж и Тарасов договорились заявить о взаимном желании провести открытые матчи, а канадскому делегату в МФХЛ поручить разработать там план так называемых «выставочных» матчей. Пейдж предложил российскому тренеру подписать соглашение о намерениях, «а потом я начал действовать в их пользу». Пейдж сказал, что представит документ в КЛХА (CAHA) для рассмотрения, и только после этого последует ответное сообщение о согласии канадской стороны. После этого Гордон Джакс, исполнительный директор CAHA, отправил Тарасову телеграмму перед его возвращением в Россию, в которой выразил заинтересованность CAHA и подтвердил желание продолжить переговоры.
По словам Пейджа, ответа снова не последовало, пока на этой неделе он не встретил другого российского тренера Чернышева в холле отеля в Саппоро. «Он был с тем же переводчиком, что и в Европе в прошлом году. И у меня сложилось впечатление, что они упрекали нас в том, что мы совсем не отреагировали на их предложение. Это было неправдой и действительно начало меня раздражать. Чернышев же подтвердил, что русские по-прежнему благосклонно относятся к открытому соревнованию с лучшими игроками Канады».
Завершая своё высказывание агентству CP, Ф.Пейдж заявил, что Канада сделает свои предложения уже на совещании МФХЛ в Румынии (июль 1972), в расчёте на то, что они будут приняты окончательно. Так Канада, несмотря на своё отсутствие в хоккейном турнире, именно с площадки всемирного Олимпийского форума заявила о твёрдом намерении вернуться для возобновления соревнования с остальным миром. Таким образом, Фред Пейдж оказался первым официальным лицом с канадской стороны, да и со стороны МФХЛ, кто заявил миру о желании Канады соревноваться с русскими.
Обратим внимание, всё происходило при откровенно безучастном отношении к этому самого Президента МФХЛ Дж.Ахерна. Поскольку он за два дня до этого, сразу после торжественного открытия игр, перед прессой подробно и нелицеприятно высказался в адрес хоккейного руководства Канады.
Канадский тренер команды Швеции Билл Харрис был когда-то центрфорвардом «Торонто Мэйпл Лифс», позднее даже играл однажды (декабрь 1969) в Москве против сборной СССР. Его тренерский стаж перед олимпиадой был невелик, хотя он 1,5 года работал с фарм-клубом «Детройта». Канадец открыто не любил советский хоккей за его неуклюже завуалированный и, как он считал, казарменный профессионализм. И всячески пытался это подчеркнуть, всегда стараясь не проиграть русским любой ценой. Победив дважды команду «олимпийцев» Боброва в конце декабря, а затем, выиграв одну из двух игр у Чернышева/Тарасова за 10 дней до олимпиады, Харрис тем самым создал себе психологическое преимущество. И бурно афишировал в медийной среде свою уверенность в победе над русскими при строгом выполнении игроками сборной Швеции его тактического плана игры. Игра для нашей команды была крайне неудобной. Потребовались предельные энергозатраты для преодоления сковывающего шведского бэкчекинга. В третьем периоде высокоорганизованные шведы сравняли счёт, отыграв 2 шайбы. Отважиться за 10 мин. до конца игры на ураганный штурм, приложить сверхусилия советская команда не рискнула. Пришлось удовлетвориться ничьей. Такой исход матча имел разнообразные последствия. В нашем спортивном лагере началось подспудное волнение. Член советской делегации Всеволод Бобров не скрывал критицизма, особенно при общении с руководством делегации. Наряду с этим Харрис в послематчевых комментариях громогласно утверждал, что шведы – лучшая подлинно любительская хоккейная команда Олимпиады. Однако, отдавая должное профессионализму русских, заявил, что они способны победить и «Бостон Брюинз», и «Монреаль Канадиенс».
Ничейный итог матча СССР – Швеция породил массу комментариев и выводов в журналистской среде. Наиболее активной оказалась здесь канадская пресса. Это особенно бросалось в глаза на фоне отсутствия в турнире канадской команды. Сначала канадцы (хоккейные колумнисты самой высокой репутации – Ted Blackman, Jim Coleman, Milt Dunnell, Jim Proudfoot, а за ними и все остальные) атаковали Тарасова во время его послематчевой пресс-конференции. Начали с вопросов о стагнации советского хоккея. Перешли к несостоятельности создания год назад специальной олимпийской команды: проект явно продемонстрировал невозможность иметь два равноценных состава игроков (40 хоккеистов самого высокого уровня). Наконец, прозвучал вопрос, вероятна ли принудительная отставка Тарасова. Намекали на его проблемы со здоровьем, указали на торопливое привлечение в состав делегации на олимпиаду В.Боброва. Создавалось впечатление, что это наступление на советского тренера было как-то срежиссировано. Тарасов постарался завершить брифинг на оптимистичной ноте. Он подчеркнул, что «никакого регресса советского хоккея нет и быть не может, иначе бы развитие спорта как такового просто бы остановилось» (08.02.1972). Медийные нападки продолжились на советских тренеров и после победы над сборной США (7:2). Под градом тех же язвительных вопросов А.Чернышев мастерски переключал акценты в дискуссии с концептуальных (провал идеи с олимпийской сборной) на более частные (слабость подготовки в СССР хоккейных вратарей). Но завершил конференцию, так и не ответив на ряд бессмысленных, но провокацилнных выпадов. В этой связи следует подчеркнуть, что в риторике обоих тренеров советской сборной ощущалось административно-ограничительное влияние. А.Тарасов, например, на одном из брифингов заявил: «Я должен сказать, что стремление к встречам с НХЛ, это не только личное желание Тарасова, но это и заявка Федерации хоккея СССР на организацию серии матчей через посредство Международной федерации хоккея» (11.02.1972). Он подчеркнул, что условия этих соревнований будут определять президент МФХЛ Д.Ахерн и Президент НХЛ К.Кэмпбелл. «Мы очень сожалеем, что на Олимпийском турнире не хватает Канады. Миллионы людей во всём мире проявляют огромный интерес к встречам между профессионалами и любителями», - завершил своё интервью советский тренер. Полемика о будущем международного хоккея нарастала. В североамериканской и западноевропейской прессе после каждого матча сборных СССР, Швеции и Чехословакии журналисты поднимали вопрос о перспективах скорейшего соревнования «любителей» с командами НХЛ. Тренер шведской команды был в этом вопросе самой востребованной фигурой. Главным образом в силу своего канадского происхождения и многолетнего стажа игр в НХЛ.
Харрис, помимо выступления на брифингах, был неоднократно интервьюирован его соотечественниками из крупнейших канадских изданий. Все его выступления, вся язвительная критика профессионализма хоккея в СССР и Чехословакии сводились к идее реализовать проект открытых соревнований команд НХЛ против остального мира. Помимо команды СССР, как главного соперника канадцев, он видел вполне достойными их оппонентами шведов и чехословаков. Решающее значение для итога таких соревнований, настаивал Харрис, будет иметь время их проведения. Назвав «мифом» атлетическое превосходство русских, он считал, что оно может быть ощутимо только в самом начале сезона. В разгар же чемпионата (после 35-40 календарных матчей) клубы НХЛ ни в чём не должны уступать европейцам. Резюмируя свои рассуждения, канадец заявил: «Любители хоккея Европы уже очень много потеряли от невозможности наблюдать игру Хоу и Беливо, закончивших карьеру. И если мы все не добьёмся проведения открытых хоккейных соревнований, они, европейские поклонники хоккея никогда не увидят величие Халла и Орра» (19.02.1972).
Всем известно – победителем Зимних Игр 1972 стали хоккеисты СССР. Выиграв решающий матч у команды Чехословакии (5:2), наш хоккей за истекшее восьмилетие совершил славный золотой олимпийский хет-трик.
Менее чем через 10 дней после возвращения из Японии информагенства СССР объявили о добровольном решении тренеров Чернышева и Тарасова уйти в отставку с поста руководителей сборной команды (формально – на заседании ФХ СССР 24 февраля 1972 г.). Зарубежная пресса, её спортивные редакторы и комментаторы отреагировали на эту новость с неподдельным недоумением. Уверенно подчёркивался увольнительный характер отставки тренеров, её добровольность подвергалась сомнению. Канадские колумнисты усматривали в этом проявление деспотизма советской командной системы («нет незаменимых») в отношении выдающихся специалистов своего дела, несмотря на их великие достижения. Кто-то считал, что причиной ухода стал фактор закономерного истощения победных возможностей тренеров-ветеранов, отсутствие прогресса в игре руководимой ими команды (в наши дни рассуждения и спекуляции на эту тему постоянно муссируются в отечественном информационном пространстве) (25.02.1972). И всё же, в СССР на пике славы и достижений редкий профессионал такого масштаба (да ещё и до наступления пенсионного возраста: Тарасову–53, Чернышеву-58) добровольно покидал свой пост.
Как бы то ни было, руководство сборной СССР по хоккею передали тренерам несостоявшейся «олимпийской сборной» Всеволоду Боброву и Николаю Пучкову. До начала очередного чемпионата мира по хоккею в Праге оставалось чуть более 40 (!) дней. Анализ итогов этого турнира (они всем хорошо известны) не является одной из задач нашего повествования. Его главное историческое значение состоит в том, что в ходе чемпионата были достигнуты договоренности между Федерацией хоккея СССР и Канадской Любительской Хоккейной Ассоциацией (КЛХА) о проведении серии матчей между сборными СССР и Канады с участием сильнейших хоккеистов обеих стран.
А вот рассказать о некоторых нюансах подготовки нашей «обновлённой» команды к чемпионату мира 1972 г. мы считаем очень важным. Это не касается набившего всем (в течение вот уже 50 лет) оскомину вопроса о деструктивном изменении новыми тренерами золотого олимпиского состава команды. Речь пойдёт о другом: о продолжавшихся нападках на уже бывшего тренера национальной команды А.В.Тарасова ответственными работниками Спорткомитета СССР. Неоднократно уже опубликованное (https://km1954.ru/hall/coach/t.../, желающие могут прочитать) письмо В.Сыча председателю С.Павлову здесь необходимо частично процитировать. Итак, вспомним – сборная СССР традиционно провела в Скандинавии серию контрольных матчей, как это происходило из года в год перед чемпионатом мира. После возвращения делегации на Родину, за 5 дней до начала чемпионата мира в Спорткомитет, на имя Председателя С.П.Павлова поступает рапорт (служебная записка) Начальника управления спортивных игр В.Сыча. В нём речь идёт «… о неправильных действиях бывших тренеров сборной СССР по хоккею т. Чернышева А.И. и особенно т. Тарасова А.В.», которыми, как следует из последнего предложения этого документа, «предпринимаются действия во вред (редакция автора) советской сборной и развитию советского хоккея».
Прочитав этот документ, нельзя не задаться вопросом: какую цель преследовал автор в сложившейся на тот момент системе координат советского хоккейного руководства? Влияние Чернышева и Тарасова на игроков сборной команды СССР было нулевым. Оба тренера, даже при желании (которого у таких великих и подлинных спортсменов быть не может) навредить своей (не далее как месяц назад!) команде, сделать это уже не в состоянии. Очевидна бессмысленность этой «докладной» записки по сути затронутого вопроса. Спортсмены, особенно командные игровики, образно выражаясь, «служат любой власти». Банальное желание навредить Тарасову (в большей степени, чем Чернышеву), как действующему тренеру армейцев, было бессмысленным и вряд ли двигало таким матёрым аппаратчиком и властолюбцем как Сыч. Так какова была истинная цель этого рапорта!? Мы порассуждаем об этом к моменту завершения данных исторических заметок. Добавим лишь, что описанный факт явился в тот момент новым проявлением непрекращающейся работы анти-Тарасовского механизма, запущенного твёрдой и беспощадной рукой канадского хоккейного исполина.
Глава 18
GE TRÄNARNA MERA MAKT
Столь пафосное завершение предыдущей главы о «беспощадном канадском хоккейном исполине» сделано не для красного словца и не случайно. Мощь этого национального явления, хоккея с шайбой (ice hockey), в подлинно северной стране под названием Канада обывателю трудно представить. Оно (явление) составляет одну из важных частей мировоззренческого сознания каждого канадского гражданина. Целое столетие существования государства характеризуется повсеместным и неуклонным развитием этого вида спорта. В любой канадской семье при рождении мальчика не допускается и мысли о том, чтобы с раннего детства он не попробовал себя в хоккее. Хоккей для ребёнка в Канаде – начальная школа жизни. Хоккей в Канаде был и остается важнейшей частью внутренней и внешней политики государства. Наконец, канадский хоккей – это гигантское транснациональное финансовое предприятие с оборотом многих миллиардов долларов. И к тому же, хоккей - это тот вид спорта, в котором Канада никогда и никому не собиралась отдавать мировое лидерство, тем более, на целое десятилетие!

Данный монолитный фундамент определял отношение всех слоёв общества страны к ставшему незавидным положению её хоккея на мировой арене в конце 60-х, начале 70-х годов. Оно представлялось катастрофическим, и никак не укладывалось в национальном сознании канадцев. Гражданское общество, правительственные круги и финансовые институты готовы были не жалеть усилий по возврату своей страны на мировой хоккейный Олимп.
Главным препятствием на этом пути канадцам виделся, и не без оснований, советский хоккей. Мы уже писали, насколько неудержимы были тренеры сборной СССР Тарасов и Чернышев в желании соревноваться с лучшими хоккеистами страны Кленового листа. И как под разными предлогами, и при безучастном отношении МФХЛ (более всего из-за нежелания её президента Дж.Ахерна), Национальная Хоккейная Лига высокомерно отвергала любые предлагаемые форматы матчей своих игроков с русскими. Вместе с тем, в Канаде готовы были к любым способам ослабления советской хоккейной машины. Так, успешным оказалось административно-конъюнктурное (см. выше, Часть 14) воздействие на некоторых ответственных работников советских спортивных организаций. И первую скрипку в этом сыграл Алан Иглсон, который осуществил беспрецедентную атаку на А.Тарасова в апреле 1969 г. через Федерацию хоккея (ФХ) и Спорткомитет СССР. Главной задачей всей этой кампании было отстранение тренера от руководства сборной командой. Первые попытки, поначалу успешные, закончились в итоге не совсем удачно. Но затем «среди полного здоровья» (выражаясь языком медиков) этот процесс возобновился уже в январе 1972 г., перед Олимпиадой в Саппоро. Ведь не случайно в самом начале Олимпиады Ф.Пейдж (см. выше) публично утверждал, что и осенью 1971 г., и в январе 1972 г. в Федерацию хоккея СССР на имя Тарасова были отправлены телеграммы от КЛХА. В них говорилось о готовности сотрудничающих НХЛ и КЛХА организовать серию матчей канадцев с советскими хоккеистами без каких-либо ограничений для профессионалов. Таким образом, аппарат Федерации хоккея (прежде всего А.Старовойтов и К.Роменский) знал о готовности Канады вступить в официальные переговоры с Советской стороной. По утверждениям Пейджа ответов на эти телеграммы не последовало. Естественно, самих А.Тарасова и А.Чернышева в ФХ об этом не информировали. В Спорткомитете им давно дали понять, что переговорная сторона советско-канадских хоккейных отношений находится вне формальной компетенции тренеров. Недаром на одном из брифингов в Саппоро Тарасов подчеркнул: «…стремление к встречам с НХЛ, это не только личное желание Тарасова, но это и заявка Федерации хоккея СССР».
Важно снова напомнить, что канадская инициатива была продиктована решением канадского правительства активно следовать советско-канадским договоренностям (Трюдо – Косыгин) октября 1971 г. Именно поэтому Министерство иностранных дел Канады поручило своим послам в СССР, ЧССР и Швеции инициировать переговоры со спортивными администрациями этих стран по ускорению принятия на местном уровне решений о соревновании с профессионалами. В уже упомянутых нами мемуарах ветерана канадской дипломатии Гари Смита всё представлено совсем в ином, обратном виде: канадское посольство в Москве в конце 1971 г. нам представляют чуть ли не главным инициатором возрождения советско-канадских хоккейных отношений (Ice War Diplomat: Hockey Meets Cold War Politics at the 1972 Summit Series; Gary J. Smith, 2020).
Пару лет назад канадское правительство рассекретило ряд документов, касающихся упомянутого выше визита в страну советского премьера А.Н.Косыгина. В частности, в Канаде было известно, что советский гость перед самым отъездом посетил в Ванкувере игру клубов НХЛ, в которой гостем был «Монреаль Канадиенс». Это событие стало аккордом, положительно завершившим тему возобновления между странами контактов в области хоккея. И хотя конкретный прогресс в хоккейных отношениях косвенно был включен в общее соглашение о развитии двусторонних обменов, ни публично, ни в частном порядке он не упоминался среди достижений или последствий визита. Однако, остановившись по пути домой в Гаване, на приеме, устроенном Фиделем Кастро, Косыгин сказал послу Канады на Кубе, что хоккейный матч стал ярким событием его только что завершившегося визита, и выразил уверенность, что Канада и СССР «скоро снова будут играть вместе». После его возвращения в Москву эта тема получила дальнейшее развитие, но уже по дипломатическим каналам. Первый секретарь советского посольства в Оттаве Б.Е.Ковальский 18 ноября связался с министерством иностранных дел Канады, чтобы сделать поразительное предложение: хоккейный клуб ЦСКА выступит на турнире в Колорадо (США) в конце декабря, и хотел бы посетить Канаду, чтобы сыграть три игры против команд «Североамериканской профессиональной хоккейной лиги» в январе 1972 года. Увертюра выглядела поразительно, потому что она была сделана напрямую между двумя правительствами, по дипломатическим, т.е. секретным каналам, а не через хоккейные федерации или спортивные министерства. Получалось, что стремление Тарасова играть с лучшими канадцами и положительный хоккейный опыт Косыгина в Ванкувере, похоже, объединились, чтобы преодолеть традиционную осторожность советской спортивной и хоккейной бюрократии. Действительно, по крайней мере многие из этих бюрократов остались в стороне. Посольство Канады в Москве сообщило 1 декабря, что его постоянный собеседник по этому вопросу заместитель Сергея Павлова по международным отношениям «только что узнал» о запросе советского посольства из Оттавы и предположил, что это инициатива Тарасова. Советский спортивный аппаратчик раскритиковал это предложение, опасаясь, что оно может поставить под угрозу золото в Саппоро. Министерство иностранных дел Канады на следующий день провело закрытое совещание с руководителями «Хоккей Канады», КЛХА (CAHA) и Министерства национального здравоохранения и социального обеспечения для выработки ответа. В результате канадцы расценили даты января 1972 года «непрактичными и обреченными на провал». Вместо этого, решили они, «мы согласимся только на то, чтобы выставить наших лучших против их лучших», имея ввиду «лучших игроков НХЛ». Рабочей группой было решено «предложить альтернативную дату в сентябре 1972 года» для организации соревнований лучших национальных команд. Официальный ответ Министерства иностранных дел Канады был направлен в советское посольство в Оттаве и был выдержан в максимально вежливой форме. Предложение о встречах хотя и приветствовалось, но было из-за неадекватности сроков (январь) отклонено, и сопровождалось «твёрдым встречным предложением о проведении показательных игр Канады с участием советской национальной сборной на самом высоком уровне в начале сезона 1972/73». Вот как на самом деле был заложен фундамент исторической Summit Series 1972 г. (Hershberg, James. "3. Breaking the Ice: Alexei Kosygin and the Secret Background of the 1972 Hockey Summit Series", 2019). Так называемые «заслуги» хоккейных и иных чиновников с обеих сторон (Смит, Ахерн, Иглсон, Старовойтов и др.) выглядят в контексте этих фактов рутинным исполнением их функциональных обязанностей или преследованием личных интересов.
Теперь можно себе представить в какую ярость привело аппаратчиков Спорткомитета известие о настойчивости Тарасова ускоренно осуществить свой давний замысел, по горячим следам воспользовавшись безусловным одобрением А.Н.Косыгина. Есть все основания предполагать, что Тарасов, используя клубный уровень соревнования (ЦСКА – «Монреаль», или «Торонто»), надеялся избежать формальных санкций МОК по олимпийской «непригодности» советских спортсменов, соревновавшихся с профессионалами. А, возможно, тренер был даже готов пожертвовать своим участием в Олимпиаде ради осуществления давней мечты.
В командной бюрократической системе страны Советов, формировавшейся десятилетиями, аппарат никому не прощал каких-либо инициативных вольностей, особенно если в результате происходило ущемление личных (не только карьерных!) интересов его представителей. И пользовался любыми способами наказания смутьянов, вплоть до окончательной профессиональной дискредитации.
Участие Тарасова в Олимпиаде, постоянный интерес к нему западной прессы, могли сделать его одной из неизбежных и заметных, пусть и символических переговорных фигур в Саппоро. Поэтому так пассивен был Дж.Ахерн, как бы не замечавший инициативного Пэйджа. Поэтому, несмотря на заверения Спорткомитета канадским дипломатам, в Саппоро не было слышно А.Старовойтова, ответственного секретаря ФХ СССР (ведь только ФХ была вправе через МФХЛ начать переговоры с КЛХА!). А Председатель и начальник управления спортивных игр Спорткомитета СССР были, естественно, озабочены «только» общекомандной победой нашей страны в Олимпиаде, и, в том числе, победой команды Советского Союза в хоккейном турнире. Да и в соответствии с Уставом МФХЛ только Конгресс этой организации мог законодательно признать право «любителей» соревноваться с профессионалами. Однако, повторимся: вызов Ф.Пейджа был анонсом непреклонного стремления хоккейной Канады к соревнованию профессионалов на международной арене. Решение этого вопроса неизбежно должно было состояться на ближайшем Конгресс МФХЛ в Праге, в период проведения Чемпионата мира (7 – 22 апреля 1972 г.). А отлученный от сборной команды СССР А.Тарасов, покинув арену международного хоккея высшего уровня, уже никак не мог влиять на судьбу своей профессиональной мечты – сражения с сильнейшими хоккеистами Канады.
Мы уже писали о том, как 25 февраля газетные издания Канады, да и США откликнулись на сообщение об отставке тренеров сборной СССР по хоккею. Авторитетный спортивный журналист, известный на всю Канаду своей крайней язвительностью и сварливостью, убеждённый мизантроп Джим Праудфут (Jim Proudfoot) свой отзыв на отставку Тарасова озаглавил «Медведь был бы ещё очень полезен». Вот его заметка в «Toronto Star».
«Русские действительно готовятся сразиться с североамериканскими воинами. Но человек, который больше всего желал этой конфронтации и сделал больше всех для ее возникновения, был лишен всех властных рычагов и всего своего влияния. «Большой Медведь» Анатолий Тарасов вчера был уволен. Он и его партнер Аркадий Чернышев были отставлены, и их заменили тренеры Бобров и Пучков, герои советского хоккея прежней эпохи.
Тарасов всегда яростно гордился своими командами. А почему бы и нет? За 13 сезонов он завоевал 9 мировых и 3 олимпийских титула. Но даже при таких достижениях его не особенно заботило, кто может победить, когда ему, наконец, доведётся сыграть с клубом НХЛ или её сборной командой. Он всегда восторженно отзывался о том, какими сильными, умелыми и отважными были его спортсмены и насколько переоцененными были профессионалы. Но про себя он страстно мечтал о возможности для своих парней учиться у спортсменов высшей лиги.
Большой Медведь был достаточно умен, чтобы понимать, что российский хоккей начал буксовать, по крайней мере, на высшем уровне из-за отсутствия должной конкуренции. Его команда не становилась лучше в течение нескольких лет, и он понял, что единственное решение заключается в более серьезных вызовах.
Проблема Тарасова, конечно, состояла в том, что он никогда не имел возможности принимать самостоятельные решения, несмотря на громкие заявления, которые всегда не боялся произносить. Решения принимали начальники, люди с гораздо большим влиянием, чем у него; но они считали, что важнее всего золотые медали, даже если они выиграны у Болгарии или Афганистана. Развитие российского хоккея для них абсолютно ничего не значило.
Тарасова донимали вопросами о его предстоящей отставке на недавних брифингах в Саппоро. Он высмеял эту идею и отметил: «Мне еще предстоит много работы». Смысл сказанного им был неотвратимо ясен. Российский хоккей застрял на перевале, впереди еще долгий путь, и человек, который сдвинет его и преодолеет это последнее препятствие, оставит неизгладимый след в истории.
Но теперь у Тарасова не будет возможности взяться за этот проект, если только советские власти не совершат одну из своих знаменитых уловок-рокировок, как только Бобров и Пучков совершат первую ошибку.
Нет, теперь у Большого Медведя будет достаточно времени, чтобы поработать над мемуарами и присмотреть за миллионом мальчишек, которые каждую зиму участвуют в турнире «Золотая шайба».
Хоккей, не только международный, с уходом Тарасова в большом проигрыше. Он привнёс новое измерение в спорт своим уникальным стилем и отлично подготовленными командами. Он создатель советского хоккея и неизбежный кандидат на номинацию в Зал Хоккейной Славы в самое ближайшее время».
Резким контрастом на этом фоне выглядела откровенно безучастная реакция советской хоккейной общественности на отставку титулованных и не побеждённых тренеров. Заявление об уходе «по собственному желанию» в советском номенклатурном понимании могло означать как вынужденную отставку (в крайних случаях маскировку увольнения), так и, гораздо реже, знак подлинного добровольного завершения службы. Разглядеть второе дно в подобных ситуациях зачастую не составляло труда. Но обсуждать такое (нередкую завуалированность истинных причин государственного решения) в открытой печати по умолчанию было непозволительно. Тем более, не допускалось обнародование влияния на подобные события высших органов (спорт вне политики!) государственной власти. Однако, тайное очень часто становится явным. И поэтому расскажем об одном эпизоде, описанном в канадской прессе, очень охочей до любых пикантных хоккейных подробностей. Вот как он был представлен во всех газетах слово в слово.
«Н.А.Тихонов, первый вице-премьер Правительства СССР, заявил в среду (14 марта 1972 г. – прим. автора) вечером, “нашим народам лучше встречаться на спортивных площадках, чем на поле боя”. Глава советской парламентской делегации в Канаде, интервьюированный в Мэйпл Лифс Гарденс сказал: “Хоккей способствует дружбе народов. Хочется, чтобы возникла Мировая хоккейная лига. Это повысило бы уровень игры. Я большой любитель хоккея, и получаю огромное удовольствие от этого вида спорта. Особенно сегодня, потому что играют две великие (Монреаль Канадиенс и Торонто Мэйпл Лифс) хоккейные команды Канады”.
Но когда его спросили, за что был уволен тренер сборной СССР по хоккею Анатолий Тарасов, Тихонов мгновенно напрягся. “Мистер Тарасов не был уволен, - сказал он возмущенно, - Анатолий возглавляет хоккейный клуб в чемпионате страны. У него слишком много работы, чтобы ещё тренировать сборную. К тому же, он стареет”». Не правда ли, убедительный аргумент 67-летнего государственного руководителя в оправдание отставки «стареющего» 53-летнего тренера. В этих словах Тихонова явно усматривается не знание предмета, а аппаратно-бюрократическое стереотипное клише, предназначенное (Кем? Ответственным за спорт С.Павловым!) для далёких от спорта первых лиц государства (15.03.1972). Однако осведомлённость при этом видна полная. Нельзя исключить в такой реакции и личной недоброжелательности в отношении своевольного и слишком популярного спортивного деятеля.
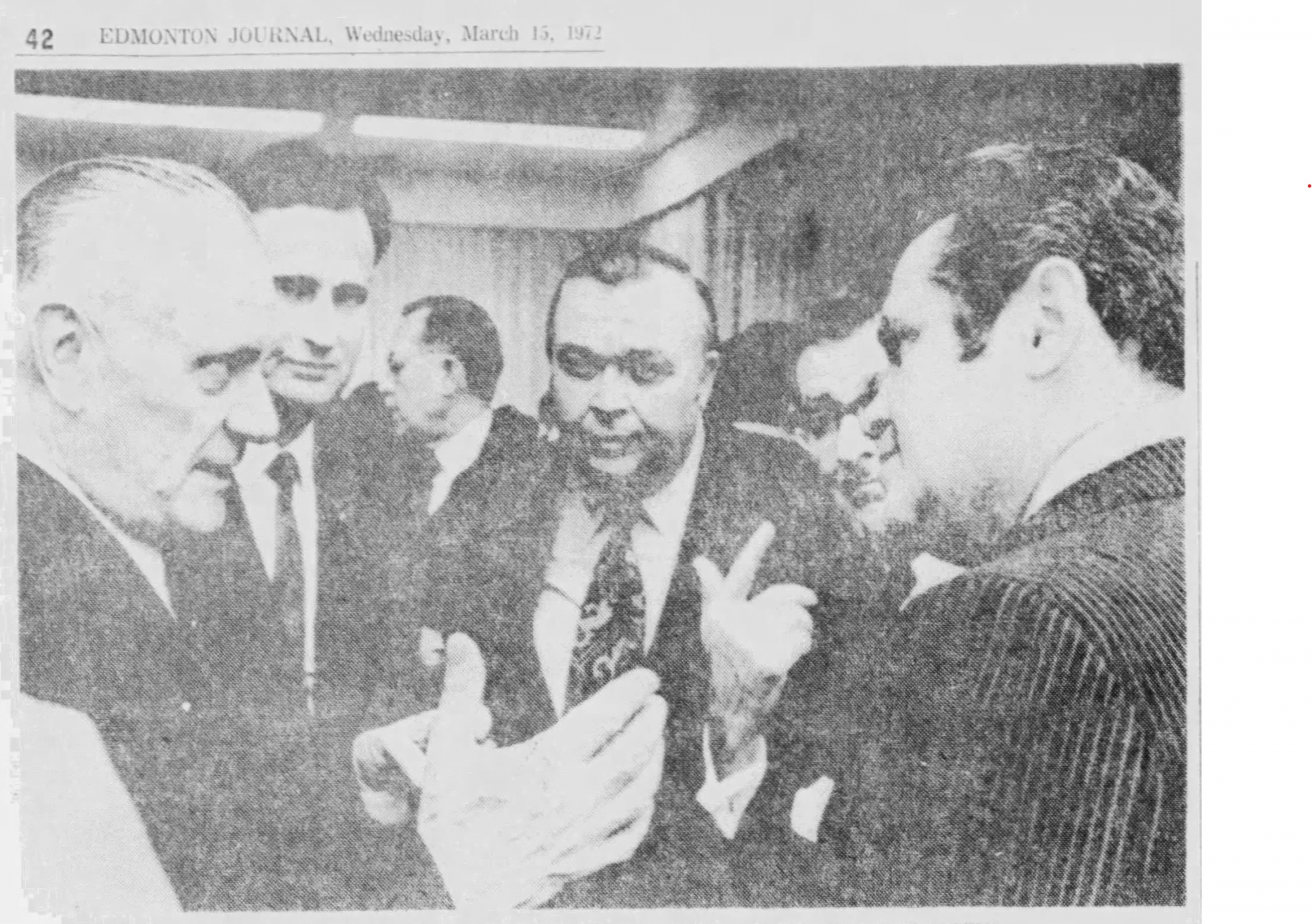
Продолжая и развивая тему «противостояния двух великих хоккейных индивидуумов», нельзя не коснуться истории «возвращения» в сборную СССР (но уже в роли тренеров) В.Боброва и Н.Пучкова. Подробности этого события раскрывает спортивный (хоккейный) журналист из Ленинграда (Санкт-Петербурга) Семён Вайханский в своей знаменитой монографии «Золотая книга сборной СССР по хоккею». В главе «Интрига назначения» автор, фактически интервьюируя своего друга Н.Пучкова, выясняет детали смены тренерского руководства сборной СССР. Немаловажно обратить внимание на утверждение Пучкова, что именно он убедил министра С.Павлова пригласить Боброва на роль начальника команды, тогда как самому Пучкову предназначалась роль тренера. Ведь в сезоне 1971 г. его команда СКА (Ленинград) стала третьим призером чемпионата СССР. Однако, Боброву, в нарушение договоренности с Пучковым, путём административных интриг удалось присвоить роль старшего тренера себе. Описывая недолгий период их совместной работы в сборной СССР, Пучков в этом разговоре подчёркивал посредственные тренерские качества В.Боброва, цитируя его же собственное признание: «Ну, какой я старший тренер, если ни игры, ни тренировки не веду?» Напротив, «биограф» Боброва, спортивный журналист В.Н.Пахомов рассказывает, что «… когда перед Прагой Боброву предложили взять в ассистенты Пучкова, он не отказался».
Вместе с тем, Всеволод Михайлович, вступив в свои новые права, начинает формировать образ радетеля за спасение доставшегося ему наследства. Так, в день утверждения его старшим тренером сборной команды страны он делится со своим «верным и искренним другом» всё тем же В.Н.Пахомовым: «Знаешь, что меня беспокоит? В Саппоро наша команда не выиграла ни одного третьего периода. Прежде такого никогда не бывало! Наоборот, вспомни, раньше мы всегда наиболее сильно проводили заключительную 20минутку. Поражаюсь я порой на Чернышева и Тарасова – опытные специалисты, десять лет работали в сборной команде, но как могло случиться, что в составе оказалось шесть игроков старше тридцати лет? Вот это и сказалось на результатах третьих периодов. А ведь чемпионат мира в Праге будет в два раза длиннее олимпийского турнира» (Пахомов В.Н., «Бобров – гений прорыва», 1983).
А вот что говорит Бобров после того же чемпионата мира 1972 г. «Игроки нашей сборной сделали всё, что могли, но соперник оказался в лучшей форме. Почему это произошло? Вся система подготовки сборной СССР была построена так, что пик формы её игроков пришёлся на олимпийский турнир в Саппоро. Чехословацкие хоккеисты, наоборот, … рассчитывали достичь вершин именно в Праге, и это у них получилось. Перед отъездом в Прагу сборная СССР помолодела (с 27 до 25 лет среднего возраста – примечание авт.). И если бы этого не произошло, мы могли закончить чемпионат мира ещё слабее». «Чехословацкая команда тоже не показала в тактике ничего нового … но … игры сборной ЧССР …оказались для нас на редкость трудными и обернулись потерей трех очков». Впечатляет последняя фраза этого подведения итогов сезона: «Скажу лишь, что двери в сборную страны открыты всем – независимо от возраста и стажа выступлений» (а как же «старше 30 лет»?!!!).
Обсуждая причины поражения, тренер почему-то забывает объяснить, почему его команда, ни разу не проиграв (в 10 матчах!) третьего периода, всё же отстала от чемпионов мира на 3 очка.
Наш столь беглый анализ самооценки дебюта нового руководителя сборной СССР по хоккею сделан с одной целью. Показать, какими были главные ориентиры и критерии при осмыслении тренером потенциала и перспектив руководимой им команды. Это будет важно не забывать при дальнейшем описании и обзоре заключительного этапа, самогО апофеоза советско-канадского хоккейного противостояния в сентябре 1972 г.
Давно и хорошо известно, что в ходе пражского чемпионата мира в рамках работы исполкома МФХЛ (на котором А.Старовойтов, как ему и обещали в 1969 г., был избран членом Исполкома) активно прошли сложные (3-дневные!) переговоры советских и канадских хоккейных администраторов. Канадскую сторону представляли «Хоккей Канады» (Чарлз Хэй, Лу Лефэйв) и КЛХА (Джон Кричка), советская делегация была представлена ответственными секретарями ФХ СССР А.Старовойтовым и К.Роменским. Понятно, что главной фигурой для них был начальник управления спортивных игр В.Л.Сыч, но в переговорах формально он участвовать не мог. Решался вопрос о проведении серии матчей между хоккеистами двух стран без каких-либо ограничений для Канады по подбору игроков. Джон Ахерн, как Президент МФХЛ, упорно не решался делать это под патронажем своей федерации. Но спикер канадской делегации Джон Кричка бескомпромиссно отстоял право двух стран независимо решить этот двухсторонний вопрос без внешнего влияния и вмешательства. Договор подписали 18 апреля 1972 года Джо Кричка в качестве президента Канадской любительской хоккейной ассоциации (CAHA), Андрей Старовойтов в качестве генерального секретаря Федерации хоккея Советского Союза, Джон «Банни» Ахерн в качестве президента МФХЛ и бывший президент CAHA Фред Пейдж, в качестве вице-президента (североамериканского) МФХЛ. Стороны договорились об условиях: четыре игры в Канаде, которые состоятся в Монреале (Montreal Forum), Торонто (Maple Leaf Gardens), Виннипеге (Winnipeg Arena) и Ванкувере (Pacific Coliseum), а также четыре игры в Советском Союзе. все они пройдут в Москве в Ледовом дворце «Лужники» (Sport and Canadian diplomacy, D.Macintosh, McGill-Queen's University Press, 1994)
Здесь мы считаем своим долгом развеять многолетнее, бесстыдно навязанное, и по сей день культивируемое заблуждение (самое мягкое слово) о консолидирующей роли Алана Иглсона в этих переговорах. Хорошо знакомый нам хоккейный импресарио узнал от Рона Фишера (читатель уже встречал это имя) о переговорах только за день до их окончания. Тем не менее, канадец успел прилететь в Прагу к самому финалу подписания русскими и канадцами согласованного протокола. И первым умудрился, ловко организовав поспешный брифинг, сообщить всему миру об этом событии. Лишь позднее канадцы Пейдж, Хэй, Лефэйв и Кричка, и порознь, и сообща опровергли факт участия Иглсона в переговорах. Но, как гласит первый «неписанный закон бизнеса», «Лучше быть первым, чем лучшим».
Для Канады это было праздничное событие: страна, живущая хоккеем 24 часа в сутки, возвращалась на мировую арену. Из-за огромного политического значения той серии матчей и множества дипломатических нюансов, возникающих в ходе переговоров, Министерство иностранных дел Канады сформировало в 1972 году специальный Отдел Международных спортивных связей, занимающийся подготовкой сентябрьской серии. Другой причиной такого шага было настойчивое требование Советов проводить переговоры и соблюдать протокольные нормы через соответствующие дипломатические каналы обеих стран. То есть, переписка хоккейной делегации Канады со Старовойтовым (обратите внимание, в единственном числе) с этого момента транслировалась через МИД Канады и, как его субординат, канадское посольство в Москве. Именно через московское посольство «Хоккей Канады» согласовал окончательный текст пражского договора, определил условия телетрансляций серии как для североамериканской, так и для европейской части соревнований. Планировалась численность советской и канадской групп поддержки (болельщики), которые будут сопровождать команды.
Мало кто знает, что Кларенс Кэмпбелл (Президент НХЛ) после чемпионата в Праге более месяца настаивал на том, что ни один хоккеист НХЛ не имеет права выступать в подобной серии матчей. Он наотрез отказывался обсуждать с журналистами тему СССР – НХЛ до соответствующего совещания Совета Управляющих лиги. 25 мая 1972 г. BOG на очередном заседании в Нью-Йорке впервые обсуждал вопрос соревнования NHL с русскими. Управляющие поручили Б.Уортцу (Председателю Совета, избираемому каждые 4 года) обсудить с руководством «Хоккей Канады» ряд соревновательных деталей, угрожающих ослабить возможности канадской «команды-мечты». Управляющих не устраивали даты проведения серии матчей – начало сентября в полувековой практике НХЛ никогда не было даже началом тренировочных сборов клубов. А уж для соревнований первая декада сентября считалась просто неприемлемой. Лавиной надвигались финансово-страховые вопросы у игроков и их клубов: распространялась ли предсезонная страховка и стандартные выплаты за выставочные матчи на тренировочный сбор и саму серию игр сборной команды? BOG настоятельно предлагал начать соревнование с Советской части (Москва, 22-28 сентября, как первоначально указывалось в Протоколе), и только вторым этапом (октябрь-ноябрь) играть оставшиеся матчи в Канаде. И ещё вопросы, вопросы, вопросы. (26.06.1972) Отдадим должное А.Иглсону – он сражался за эту серию у себя, на территории Канады до победного конца, добившись заинтересованности и прямого участия как Билла Уортца (Bill Wirtz), так и всех игроков-претендентов на место в составе команды. Благодаря этому, все спорные вопросы были решены, сроки окончательно установлены, в чём НХЛ сделала уступку Советам. Иглсон нарисовал Уортцу огромную личную финансовую перспективу таких соревнований (условно – открытые чемпионаты мира) в будущем. Другому члену BOG Х.Балларду («Торонто Мэйпл Лифс») Иглсон вместе со своим финансовым партнёром и клиентом (в качестве игрока) Бобби Орром помог выкупить права на телетрансляции в Северной Америке всех матчей серии (A.Eagleson, POWERPLAY, 1991). В Канаде кипела работа.
Закончившийся в Праге чемпионат мира (а он фактически был чемпионатом Европы, как и последовавшие ещё два) для Канады не явился сколько-нибудь заметным спортивным событием (не считая, конечно, исторического исполкома МФХЛ). А вот для советского хоккея его итоги и последствия стали поворотным моментом в истории. Два обстоятельства символизировали этот поворот. Во-первых, поражение в чемпионате - первое за последнее десятилетие. Во-вторых, возврат к забытому за три с половиной года противостоянию с Канадой. Предстоящему теперь на более высоком, никогда ранее неведомом уровне! Неизбежно возникал вопрос: следует ли в новых обстоятельствах делать какие-то организационные выводы? Ответ на него зависел от тех задач, которые ставило (или должно было ставить?) перед собой как спортивное (и, видимо, не только) руководство страны, так и высший командный эшелон отечественного хоккея (руководство Федерации и тренеры сборной СССР).
Кипела ли работа, и как, в СССР? Несмотря на первую за десятилетие потерю звания чемпионов мира, коллегия Спорткомитета СССР признала удовлетворительным выступление нашей команды (тот случай, когда «чует кошка, чьё мясо съела»). Однако по возвращении в Москву сборную СССР добровольно покинул тренер Н.Пучков, и его место занял другой «заклятый друг Тарасова», старший тренер «Крыльев Советов» Б.Кулагин. Все понимали - у Олимпийских чемпионов впереди был новый, небывалый вызов – матчи с лучшими профессионалами Национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб сборной надо было укреплять «опытными практиками». Кулагин, не в пример своему нынешнему старшему коллеге по сборной, был настоящим, полноценным тренером с многолетним (10 лет!) стажем и опытом непрерывной работы в армейской команде. Под руководством своего прямого начальника А.Тарасова. Все без исключения армейцы сборной СССР в большей или меньшей степени были и его креатурой. Он знал к ним подход, умел использовать их «чувствительные точки» и заслуженно располагал их бесспорным уважением. Тут, как раз, Борис Павлович был спасением для Боброва! Именно в вопросе преодоления здорового, в самом лучшем смысле этого слова «высокомерия» армейских хоккеистов. Идея пригласить Кулагина к работе со сборной принадлежала А.И.Чернышеву. Он, как человек уравновешенный и мудрый, понимал, что Тарасову никогда не простят его дерзкой независимости. Но понимал Чернышев и то, что без Тарасова наша команда лишалась «царения духа» непобедимости. И для того, чтобы этот дух сохранился в коллективе хотя бы частично, Чернышев настаивал на привлечении к работе с командой Кулагина (А.В.Тарасов - личное сообщение, 1987). Аркадий Иванович охотно (уже по встречному настоянию Спорткомитета) согласился отправиться с Кулагиным в Канаду для наблюдения за подготовкой канадской команды.
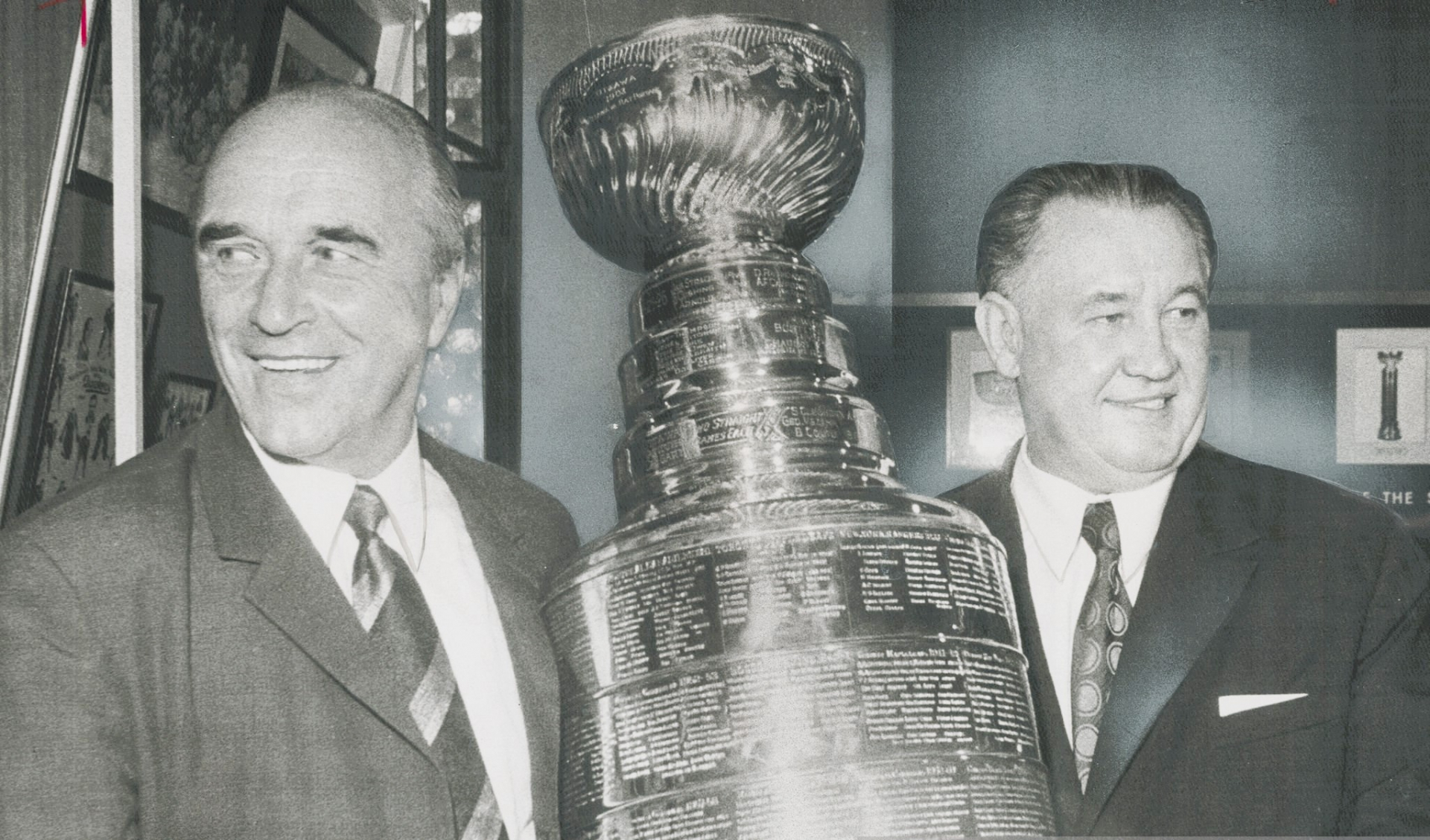
В западном мире предпринимательства любое многообещающее начинание требует широкого публичного освещения, эмоциональной накачки общества для успеха массового потребления. Суперсерия СССР – Канада (так её сразу окрестили в западном медийном пространстве) обсуждалась повсеместно и весьма квалифицированно. Аналитические материалы о советско-канадских хоккейных соревнованиях прошлого сочетались с постоянным описанием текущего процесса подготовки (вплоть до парада моды для хоккеистов НХЛ) и нескончаемыми прогнозами исхода предстоящего состязания.
В отечественной печати ничего похожего не происходило. Единственное центральное спортивное издание газета «Советский Спорт» транслировала скудные формальные новости, поступавшие из-за океана: в середине лета нам сообщили о приезде в Москву скаутов из «Торонто Мэйпл Лифс», о поездке Чернышева и Кулагина в Канаду с ответным «разведывательным» визитом. А чуть ранее, в мае, через две недели после завершения чемпионата мира в Праге, в Москве началась (точнее сказать, получила своё продолжение) «тайная операция» по окончательной профессиональной дискредитации (см. выше) самого Анатолия Тарасова.
В эшелонах власти всегда происходит утечка (или сознательная индукция) важной служебной и политической информации как по горизонтали, так даже и в вертикальных направлениях. Поражение в Праге заставило ряд ответственных работников и экспертов аппарата ЦК КПСС (главным образом сотрудников и влиятельных специалистов идеологического и международного отделов) обсуждать итоги неудачно завершившегося чемпионата. И размышлять о возможных последствиях предстоящего советско-канадского состязания. Представители интеллектуальной элиты власти, люди, разбирающиеся в хоккее, видели и понимали неопытность (прежде всего международную) новых тренеров сборной СССР. Эти высококвалифицированные аппаратчики начали готовить инициативное обращение в секретариат ЦК КПСС. Речь шла о необходимости вернуть к тренерскому руководству хоккейной команды (только на период подготовки и самого соревнования) А.Чернышева и А.Тарасова (А.Е.Бовин, А.Н.Яковлев – личное сообщение, 1986, 2002). Для повышения шансов на победу в данной серии игр их присутствие, лидерство и просто сам факт участия рассматривались многими, как условие само собой разумеющееся и обязательное. Возникла ситуация, при которой высшее руководство страны, придавая политическое значение резонансу международных спортивных достижений, могло склониться к принятию такого решения.
Известно, что назначение нового тренерского тандема хоккейной сборной СССР обосновал (перед вышестоящими органами) и осуществил С.П.Павлов, председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Его руководящее положение на четвёртом году службы было ненадёжным: он только что выиграл первую свою (Саппоро 1972) Олимпиаду, и хоть добился первого командного места, но уступил показателям Иннсбрука (1964). Ранее мы уже писали («ТРЕНЕР Тарасов», Изд. «Рутена», 2000 г.) о его не самой «благополучной» карьерной эволюции. Изначально являясь ставленником Н.Хрущёва (с 1959 г. 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ), с момента назначения (1968 г.) «министром спорта» (что в понятиях номенклатуры являлось «перемещением в сторону») Павлов постепенно шёл на «понижение» по иерархической партийно-номенклатурной лестнице. В 1970 г. он перестал быть депутатом Верховного Совета СССР, а за полгода до чемпионата мира в Праге из членов ЦК КПСС был переведен в члены Центральной ревизионной комиссии (ЦРК) КПСС.
Есть основания полагать, что о готовящемся обращении в секретариат ЦК КПСС Павлову сообщили, и, похоже, своевременно. «Интересанты» канадского плана-проекта Иглсона в советской спортивной номенклатуре решили немедленно предпринять опережающее действие. Они решили направить (и сделали это!) в ЦК КПСС на имя кандидата в члены Политбюро, министра обороны СССР маршала Гречко А.А. письмо (от 5 мая 1972 г.) из Госкомспорта за подписью Павлова. Это была почти полная копия докладной записки Сыча (см. km1954.ru статья «По долгу службы») направленной Павлову (см. выше) 3 апреля 1972 г.
Письмо Павлова Министру обороны указывало на содержащиеся в книге советского тренера сведения, «…которые в нашей стране предназначены только для служебного пользования, так как раскрывают важные вопросы подготовки сборного коллектива …». Одновременно в этом письме Павлов совершенно бездоказательно, буквально клеветнически инкриминировал Тарасову сокрытие факта присвоения валютного гонорара за эту книгу и фактически ставил в известность об этом партийное руководство страны. Вследствие этого Министр обороны СССР оказался в довольно щекотливом и двусмысленном положении. Всегда оборонявший (на своем клановом уровне) Тарасова от нападок и критики за его строптивый нрав, в данной ситуации маршал лишался каких-либо козырей в защиту своего подопечного. Но прежде всего, подчинённого в звании полковника. К тому же сама по себе ситуация косвенно бросала тень и на руководителя наших Вооруженных сил.
Если же строго следовать фактам, то издателем и подлинным автором этой книги был молодой шведский тренер Вернер Перссон (Werner Persson), в 1971 г. учившийся еще и в Высшей партийной школе ЦК КПСС. Многочисленные беседы с А.Тарасовым о хоккее (как в Швеции, так и в СССР) он суммировал в виде манускрипта и самовольно (без согласия собеседника) предоставил шведскому издательству «Askild & Karnekul» для опубликования. Гречко, вынужденный неотложно реагировать на письмо («министра» Павлова), поступившее из Отдела административных органов ЦК, поручил своему заму по МО генералу армии И.Г.Павловскому разобраться в ситуации (см. ниже – письмо А.В.Тарасова). И разбирательства начались, завязалась длительная волокитная переписка, позволившая Павлову и Спорткомитету выиграть время. А на случай каких-либо
«указаний сверху», ссылаться на в Министерстве обороны (и, нельзя исключить, в КПК ЦК КПСС) разбирательства, касающиеся «неблагонадежности» коммуниста А.В.Тарасова. Уже сам факт рассмотрения вопроса на таком уровне надолго исключал для А.Тарасова любую возможность выезда за рубеж (Н.И.Савинкин - личное сообщение, 1984). Возвращение А.В.Тарасова в сборную СССР стало невозможным.
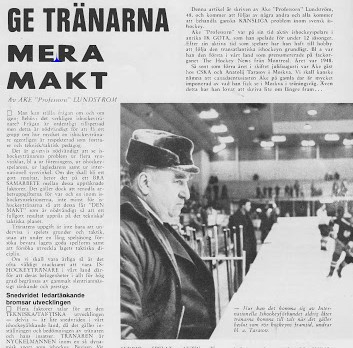
В завершение этого раздела мы приводим (в качестве документального доказательства) копию первой и последней страниц Объяснительной записки, которая была ответом Тарасова заместителю Министра обороны СССР генералу армии Павловскому И.Г.
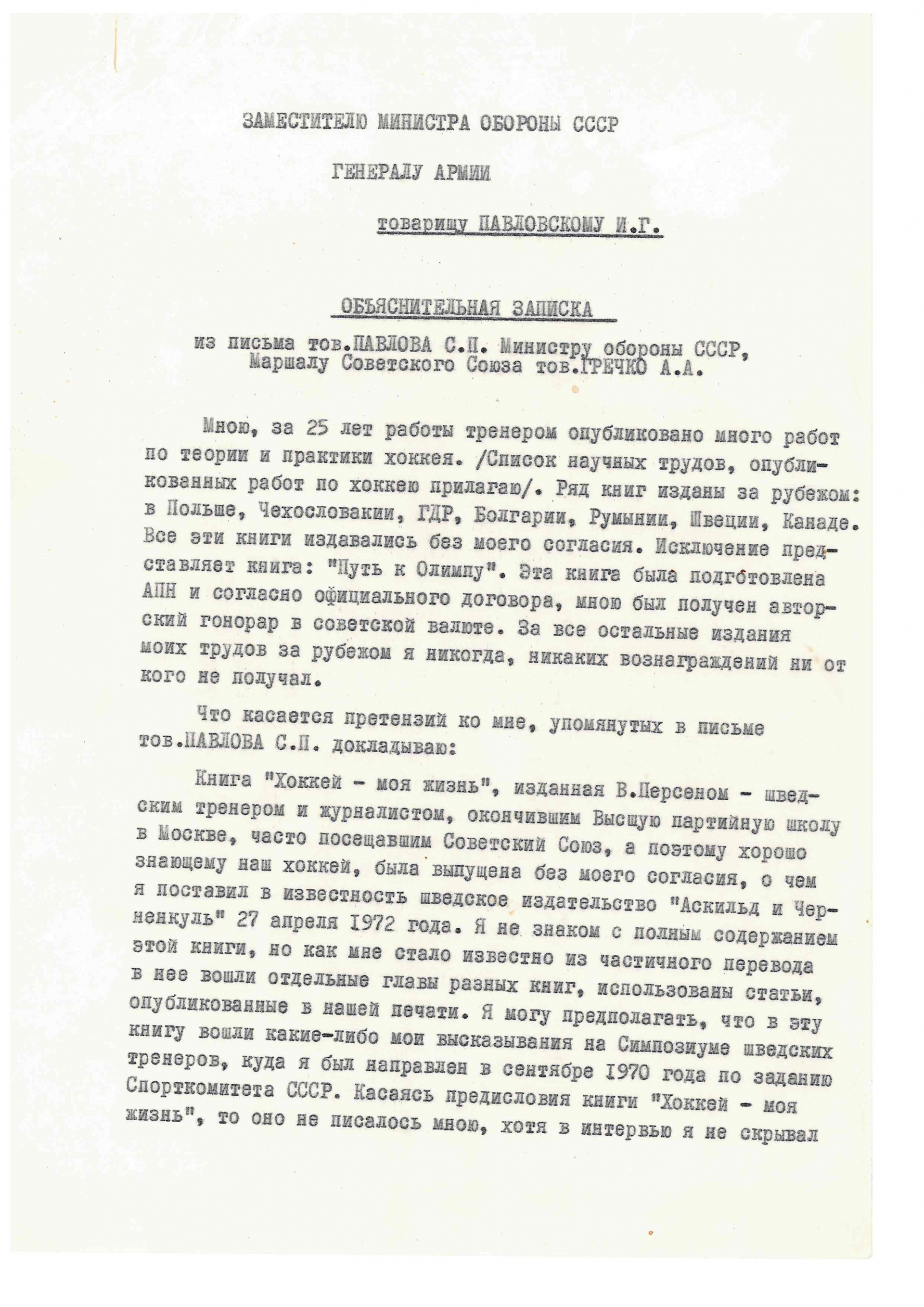
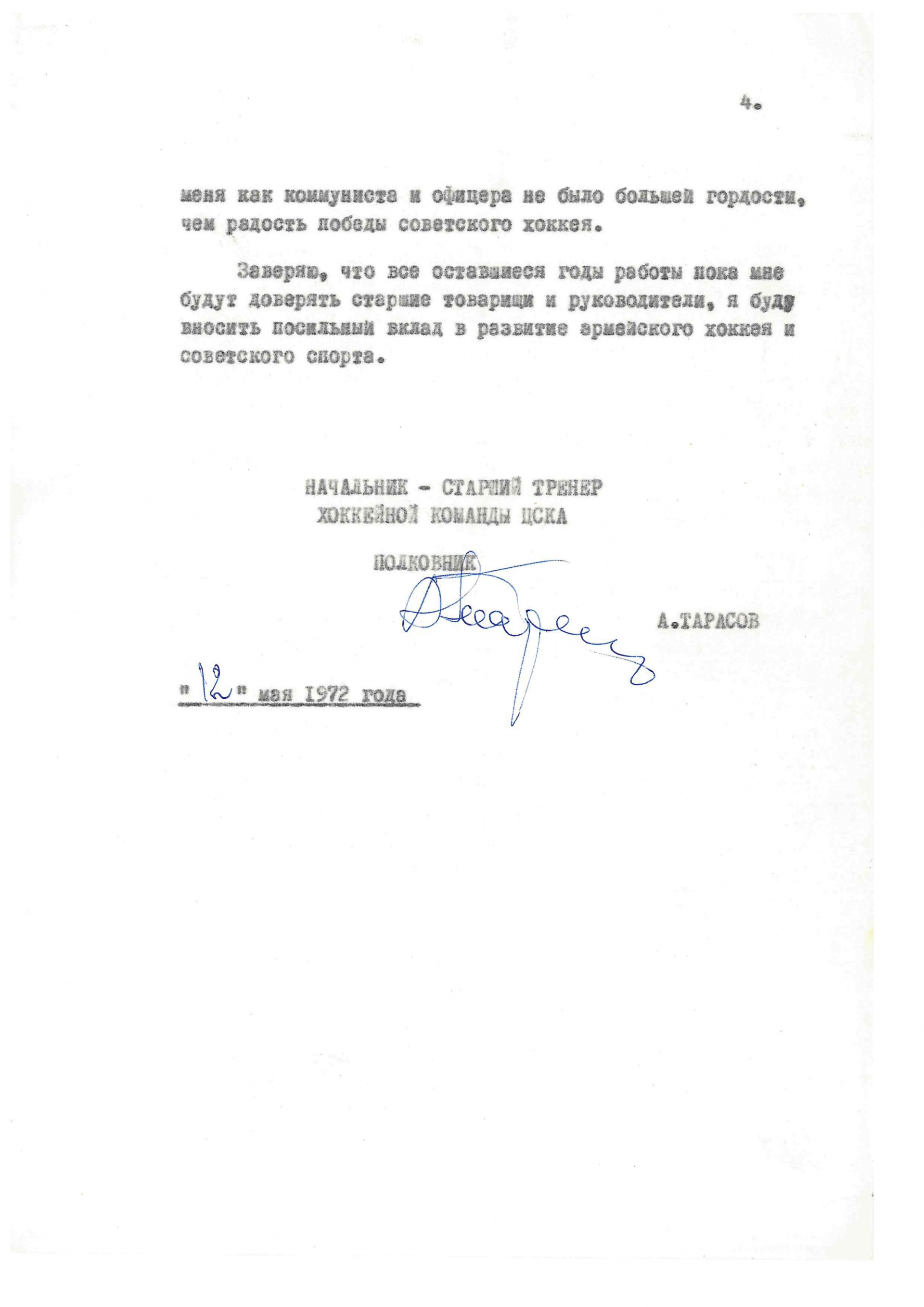
Глава 19
SS 1972

Авторы уверены, что после прочтения 18 опубликованных глав найдётся немного здравомыслящих читателей - поклонников, специалистов, знатоков, любителей (никого не забыли?) хоккея, включая недоброжелателей А.Тарасова, кто бы усомнился в его авторской и решающей роли в рождении неведомого ранее соревнования профессионалов и любителей - сильнейших мастеров хоккея Канады и СССР. Дорога тренера к этому событию была нелёгкой и долгой. На этом пути он постоянно испытывал «препоны и вредоносность ничтожных людей» (таких же, как и его сегодняшние хулители), что мы убеждённо расцениваем лишь как «вздор, всегда сопровождающий великую судьбу». Наш герой достойно это преодолел, приведя своё дело к желанной цели – СССР и Канада договорились, соревнования стали реальностью, было определено их место и назначены сроки проведения. С надеждой на обоюдное понимание вышесказанного мы последующими главами завершаем наше повествование.
Но для того, чтобы укрепить взаимопонимание с читателем, сделаем важное примечание. За 50 лет с момента того небывалого события написаны десятки книг, тысячи статей и состоялось несчётное число выступлений по этому поводу. Автор сознательно не использовал в качестве источников никаких книжных публикаций (как зарубежных, так и отечественных) на эту тему за исключением монографий К.Драйдена (The Game, 1983) и А.Иглсона (Power Play, 1991). Основные сведения почерпнуты из личного опыта (посещение соревнований и тренировочных занятий команд ЦСКА и сборной СССР), общения с А.В.Тарасовым, В.В.Александровым, А.П.Рагулиным, А.В.Фирсовым, В.И.Васильевым, А.К.Пашковым, а также из зарубежной периодической печати и специальной спортивной исследовательской литературы. По ходу текста (читатель должен был заметить) регулярно приводятся ссылки на персоналии (с указанием имён и дат) и сообщения прессы (даты в скобках), послуживших источниками информации.
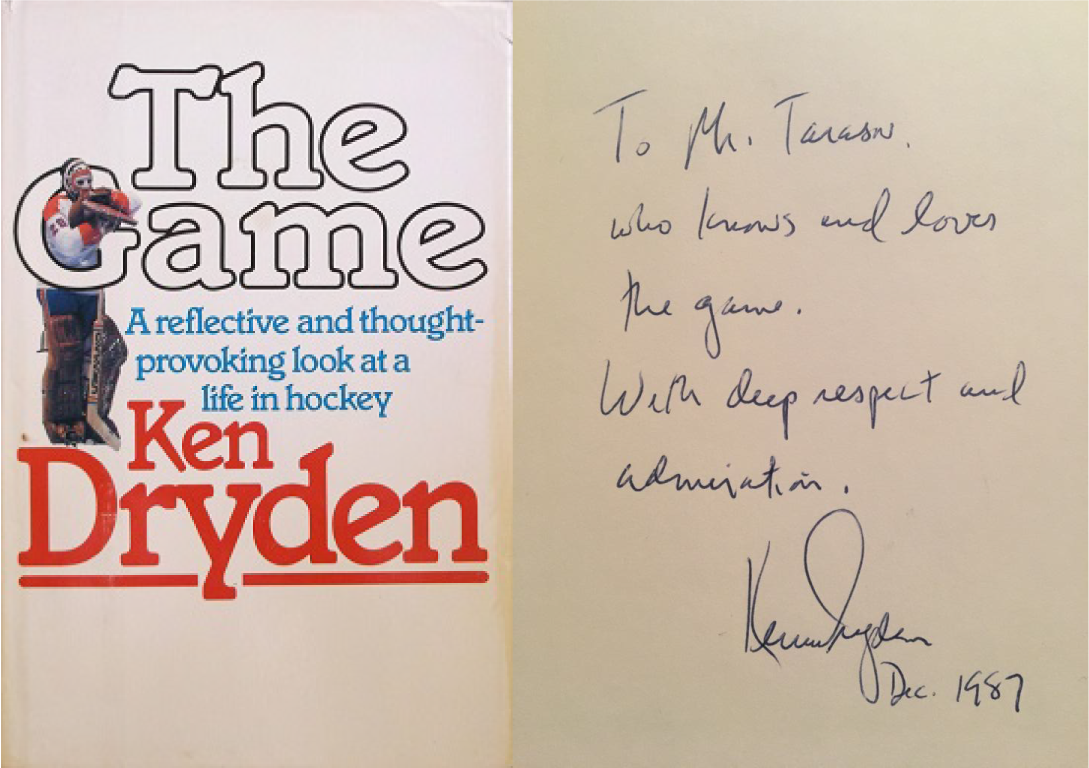
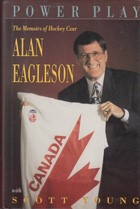
Вступая в эпилог, давайте начнём с конца.
Историческая хоккейная Суперсерия СССР – Канада 1972 г. завершилась победой заокеанских хоккеистов с известным всем счётом. Эта победа была добыта за 34 секунды до окончания последнего (8-го) решающего матча.
Оставим в стороне все эмоциональные, пропагандистские, демагогические и другие оценки исхода данного соревнования. Ограничимся чисто спортивной. А спортивный результат может быть только одним – победа или поражение. Сборная СССР по хоккею в этой исторической схватке проиграла.
А вот итог небывалого международного спортивного события можно на все лады представлять с политических и/или пропагандистских позиций, прибегая к эмоциональным и демагогическим формам подачи фактов.
Рассмотрим реакцию на исход этой Суперсерии с каждой из сторон. Но для полноты и объективности картины здесь не обойтись без описания всего того, что предшествовало самим соревнованиям.
Начнём с Канады, родины хоккея. Страны, которая 2,5 года была вынуждена находиться в изоляции от остального хоккейного мира (и делала это сознательно и принципиально) в ответ на санкции МФХЛ инспирированные МОК. Когда, наконец, у Канады приняли её условия – официально позволили сильнейшим хоккеистам страны соревноваться с европейцами (в основном с СССР, и попутно с Швецией и Чехословакией) - это воспринималось, как несомненное политическое достижение молодого правительства П.-Э.Трюдо, проводившего новый курс развития страны. Спортивная сторона вопроса у большинства канадцев была если не на втором, то и не на первом плане – это были две равноценных стороны одной медали. Однако в своём спортивном успехе Канада фактически не сомневалась. НХЛ рассматривала для себя эти соревнования как новое, малознакомое приключение, но с полным осознанием важности проявления национального престижа и превосходства. Все представители лиги – игроки, тренеры, менеджеры, юристы и, наконец, хозяева клубов – уверенно и хладнокровно говорили о предстоящей бесспорной победе над русскими минимум в 6 из 8 матчей, а то и во всех восьми. Журналисты, а это очень влиятельное звено всей хоккейной инфраструктуры страны, были менее категоричны, но в большинстве своём не сомневались в общей победе Канады. Самым осторожным, чуть ли не единственным скептиком в этом вопросе оставался уже хорошо знакомый читателю Ллойд Персиваль. Перед началом состязания он выступил в печати с анализом «плана Тарасова», который, по его мнению, мог быть использован русскими. Но сам же выразил сомнение, что новый тренер Бобров будет его использовать. Персиваль расценивал шансы сторон как 50 на 50. Забегая вперёд скажем, что за 6, 4 и 3 недели до начала суперсерии канадский учёный-тренер трижды обращался к Г.Синдену с предложением осуществить функциональное тестирование игроков команды на базе его института. С последующими спортивно-физиологическими рекомендациями по улучшению атлетической формы спортсменов. Ответа ни разу не последовало. Эту информацию Персиваль обнародовал только после завершения советско-канадских матчей.
Телеграфно о первой в истории НХЛ сборной команде Канады.
Президент НХД Кларенс Кэмпбелл 7 июня объявил о назначении старшим тренером команды-мечты Гарри Синдена (Harry Sinden). Тренер заявил, что из 50 первоначальных кандидатов на сбор он привлечёт 35. Президент лиги и тренер в тот момент надеялись, что в «уточняющих» переговорах сроки 4-х встреч канадской половины серии им удастся изменить и перенести на 7-17 ноября. С учётом этой корректировки Синден наметил для игроков время старта тренировочного лагеря на 14 августа. И позднее, несмотря на «отказ русских идти навстречу», так и сохранил прежнюю дату начала сборов. Своим заместителем Синден выбрал Джона Фергюсона (John Ferguson), бывшего «драчливого нападающего», завершившего карьеру игрока весной 1971 г. в «Монреаль Канадиенс». Весь процесс подготовки команды координировал «Хоккей Канады», обеспечивая взаимодействие правительства, НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ. В итоги все взаимодействующие стороны «уговорили» (21 июня 1972 г.) Алана Иглсона стать менеджером команды Канады (Team Canada, такое название было придумано сообща) вплоть до окончания соревнований. Три недели менеджер и тренеры вели интенсивные переговоры с игроками и клубами, и, наконец наступил момент объявления состава национальной команды Канады.
Фешенебельный отель Торонто “Sutton Place” 12 июля 1972 г. был местом сбора хоккейного бомонда Канады. «Хоккей Канады» и НХЛ организовали пышный приём с участием многих игроков-кандидатов, официальных хоккейных лиц, администраторов и, естественно, в присутствии прессы. Всё это дополнялось участием моделей, презентовавших на себе дизайн будущей формы сборной Канады.

Гарри Синден объявил состав из 35 игроков, объясняя свой выбор стремлением к гармоничному сочетанию молодости и опыта, атакующих и оборонительных возможностей, ловкости и агрессивности хоккеистов. «Мы чувствуем, что с таким составом нам удастся достичь баланса во всех направлениях», - сказал Синден. Выступивший затем председатель исполнительного комитета «Хоккей Канады» Дуглас Фишер пояснил, что отказ от связавших себя с ВХА Б.Халла, Ж.-К.Трамбле, Д.Сандерсона и др. обусловлен ранее (май 1972 г.) подписанным эксклюзивным договором «ХК» с НХЛ на поставку только её законтрактованных игроков. Таким образом, на этой церемонии было объявлено и признано, что провозглашенная национальная команда Канады является фактически командой НХЛ. Официально была также подтверждена дата начала тренировочного сбора для всех кандидатов – 13 августа.
Там же на приёме было объявлено, что на днях в Москву для окончательного согласования деталей визита команды НХЛ отбывает делегация (Г.Синден, Дж.Фергюсон, Б.Хаггерт, М.Кэннон) во главе с Аланом Иглсоном. Девятидневный тур канадцев включал также посещение Праги и Стокгольма. Перед отъездом была организована пресс-конференция, на которой А.Иглсон, глава делегации, объяснил цели и задачи поездки, которые были весьма разнообразными – от вопроса подбора судейских бригад, числа болельщиков, посещающих каждую страну, до сроков и порядка выступлений (по отношению к играм в СССР) команды Канады в других странах (городах) Европы.
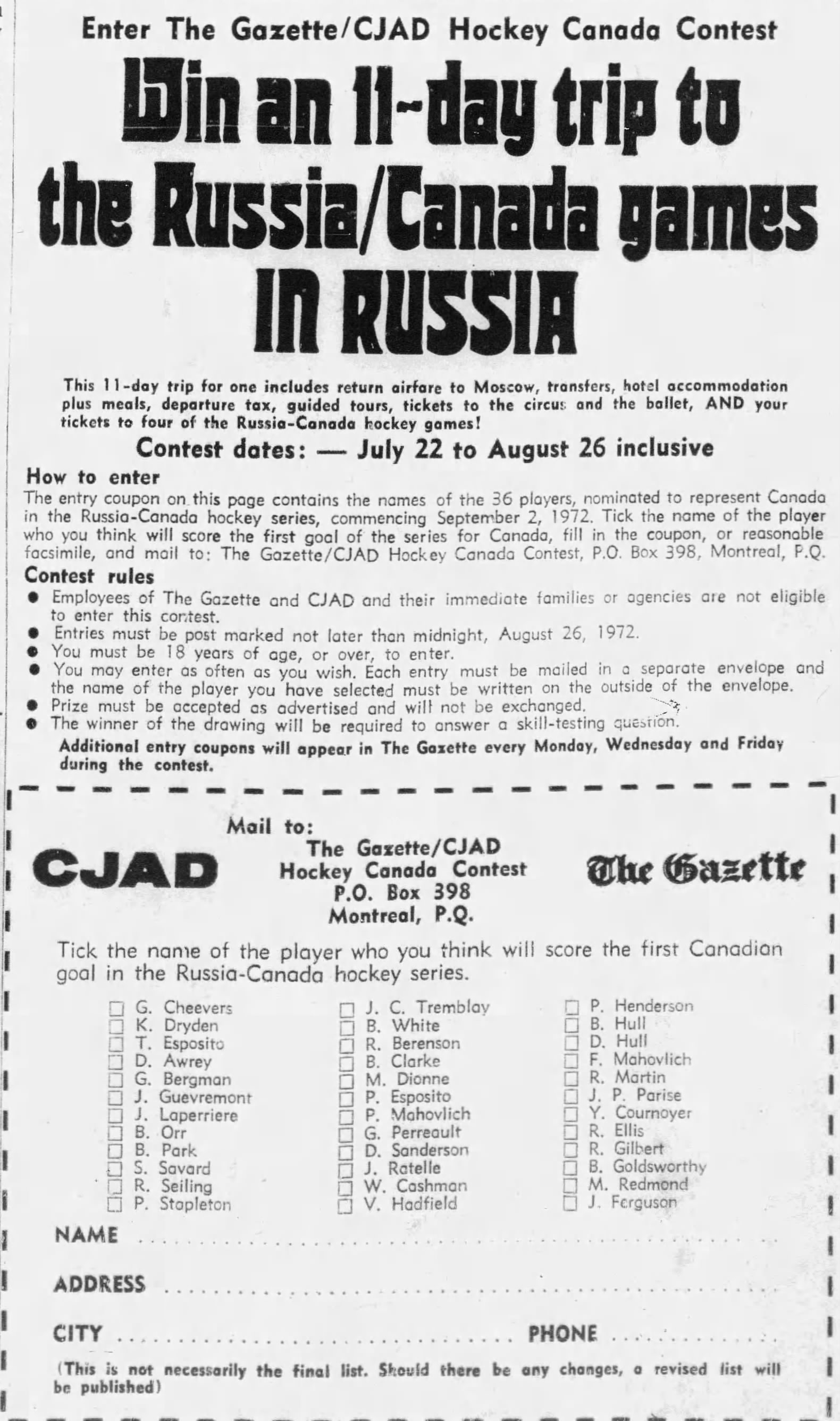
В Москве канадские гости были окружены максимальным вниманием, а ряд канадских журналистов (сначала Milt Dunnell, а затем Red Fisher) освещал в печати интересные подробности этого визита и переговоров. Официальную часть диалога с гостями вели Андрей Старовойтов и Александр Гресько (зам. начальника Управления международных связей Спорткомитета). В последний день пребывания канадцам устроили прощальный приём (банкет), где отмечали успешное завершение переговоров. Именно на этом мероприятии канадским журналистам впервые удалось увидеть В.Боброва и познакомиться с его тренерскими воззрениями, понять его отношение к методам работы, оценить знание канадского хоккея. (21.07.1972)

Несмотря на описание подготовительных мероприятий канадской стороны, мы считаем важным именно здесь начать представление «тренерского портрета» В.М.Боброва. Он поможет нам безошибочно оценить неотвратимость такого итога 15-летней (с 1957 г.) истории советско-канадских хоккейных соревнований. Что же поведал в июле 1972 г. своим канадским коллегам советский хоккейный тренер В.Бобров?
Причиной поражения своей команды в Праге Бобров назвал более сильную, чем у СССР, оборону команды Чехословакии, резюмируя, что оборона одержала победу (знакомый нам, уже упоминавшийся довод). «Я твёрдый сторонник максимального использования индивидуальных достоинств каждого игрока. Ранее, и канадцам это хорошо известно, у нас старались каждого мастера подчинить коллективному игровому шаблону. Вы увидите, что мы располагаем такими мастерами как Мальцев, Михайлов, Харламов, с индивидуальным почерком игры у каждого. Последний (Харламов) особенно выделяется за счёт хорошего владения клюшкой и точного броска. Благодаря его небольшому росту эти достоинства проявляются особенно хорошо». Бобров уделил особое внимание технике игроков, сосредоточившись на способах броска по воротам. Бесспорное преимущество он всегда отдаёт кистевому броску. И не разделяет взгляда на бросок щелчком (slapshot, по-американски), как более устрашающий и деморализующий для вратаря, считая его менее точным (прицельным). Говоря о вратарском мастерстве, советский тренер отдал пальму первенства канадским вратарям, оговорившись, что видел их игру только на экране. «Ещё в одном компоненте игры мы будем заметно уступать канадцам – на пространстве перед воротами (по-нашему, «пятачок»; у канадцев, «slot» - прим. автора). Мне говорили, что ваш центрфорвард Эспозито особенно в этом силён.
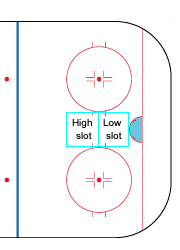
Будто бы его невозможно сместить с этой ударной позиции?» Г.Синден подтвердил это соображение, выразив надежду, что Эспозито так и будет действовать в играх с русскими. Далее Бобров утверждал, что видит свою главную задачу, как тренера сборной в сохранении звания Олимпийских чемпионов и возвращении титула чемпионов мира по хоккею. «Я обязан продолжать работу в этом направлении и идти к этой цели. Эти игры со звёздами НХЛ не столь значительны и важны, как олимпийские соревнования. Хотя многие болельщики так не считают. Наши игроки также стремятся к соревнованиям с профессионалами». Так полковник Бобров завершил свои рассуждения о хоккее на советско-канадском банкете – «первом раунде соперничества, который явно выиграла советская сторона». (21.07.1972, The Gazette)
Снова вернёмся на родину хоккея, и теперь уже расскажем непосредственно о спортивной части подготовки самой команды. Тренировочный лагерь сборной Канады открылся 14 августа: простейшими занятиями для постепенной разминки мышечного и двигательного-суставного аппарата. Элементарные упражнения выполнялись спортсменами поодиночке и попарно в тренировочном зале (см. фото).
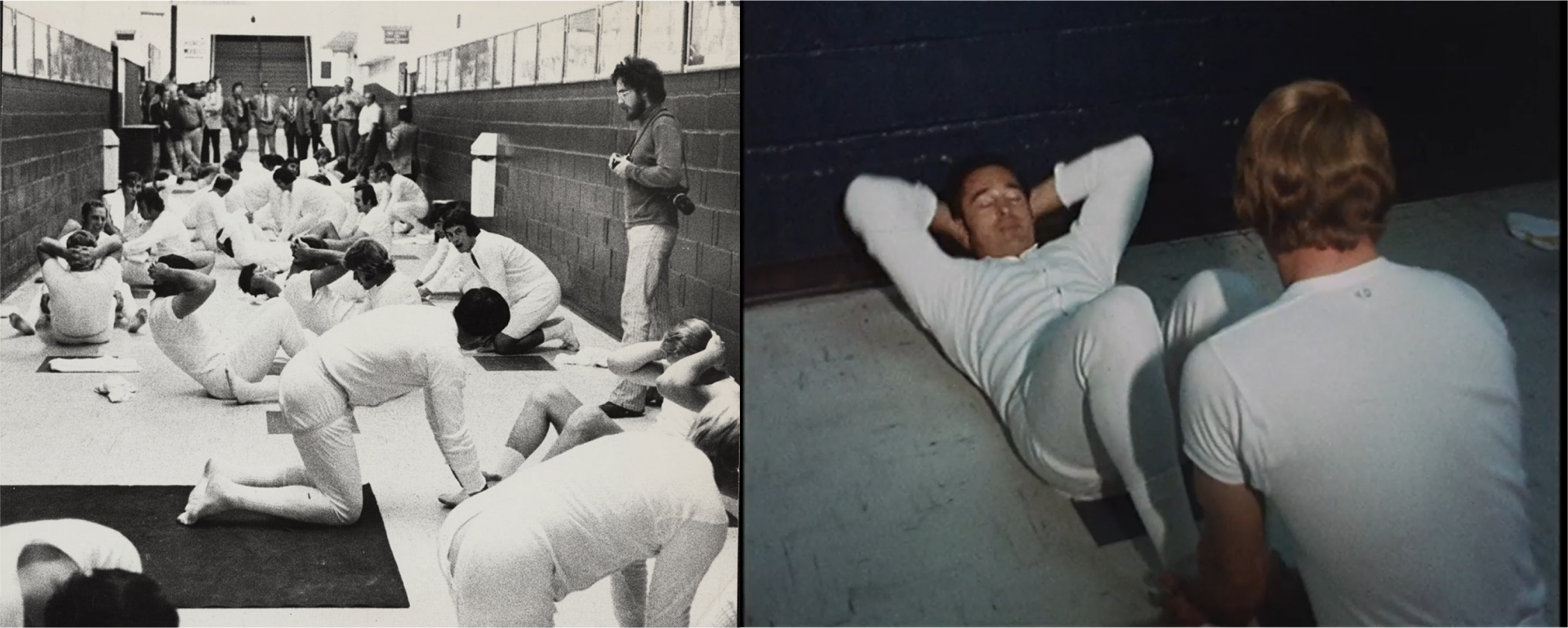
Отягощения ни в каком виде не использовались, но спортивный массаж для каждого игрока применялся ежедневно. Уже на второй день в Maple Leaf Gardens приступили к занятиям на льду (cbc.ca/player/play/1772960835919). Хозяин этого стадиона и совладелец клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Харолд Баллард (Harold Ballard) вручил тренерам символические ключи от знаменитой на весь мир (и хорошо знакомой советским хоккеистам!) спортивной арены.

Ледовые занятия (дважды в день) и три внутрикомандных игры должны были занять все дни до 31 августа, т.е. практически до самого первого матча (2 сентября) в Монреале. Таким образом, команде предстояли 13 тренировочных дней (выходные суббота и воскресенье оставались не рабочими). В ходе тренировочного сбора представители Team Canada (Команда Канады) не раз (но планомерно) общались с прессой, рассказывая о характере подготовки и планах на будущие игры. Интересными были рассуждения тренеров и игроков о предыстории встреч (личным опытом обладал только Г.Синден, а позднее и более приближенно К.Драйден) и значении тренировочной подготовки.
Старший тренер канадцев на первом брифинге поделился воспоминаниями 12-14-летней давности о своём опыте игр против сборной СССР. Он вспомнил матчи «Уитби Данлопс» 1958 и 1960 гг. (нашей командой руководил Тарасов) на мировых чемпионатах (+ Олимпийских играх), где Канада выиграла 4:2 и 8:5, но, видимо, не придал значения победным матчам своего клуба в 1957 и 1960 гг. (против сборной Москвы и второй сборной СССР) – 7:2 и 9:1 в Канаде. Синден предостерегал как своих игроков, так и журналистов от переоценки возможностей сборной Канады, «даже если в первой встрече мы сразу намылим им шею». Большие ожидания он возлагал на данные «разведчиков» Б.Дэвидсона и Дж.Маклеллана (упоминались нами выше), находящихся в Москве на турнире «Приз Советского Спорта», о состоянии игроков сборной СССР. Такие сведения поступили, но, как показало время, были малокомпетентными.
Любопытно, что отдельные хоккеисты канадской команды придерживались диаметрально противоположных взглядов на методы атлетической подготовки к соревнованиям. Фил Эспозито подробно и с удивлением рассказывал о летней школе тренера сборной Швеции А.Стрёмберга – он посетил её однажды в ходе летнего отдыха в Европе. Канадец недоумевал по поводу практикуемых шведами силовых упражнений со штангой, беговой или плавательной выработки выносливости, считая всё подобное ненужным для себя. При этом он признал, что существуют разные тренировочные программы, но подчеркнул право каждого игрока самостоятельно выбирать для себя режим индивидуальной подготовки. Форвард столь огромного калибра (от 50 до 76 голов за сезон в течение 5 лет) имел полное право на такой подход.
Иную позицию излагал нападающий «Торонто» Рон Эллис (Ron Ellis), обсуждая тренировочный режим в лагере Team Canada. Он считал, что двух недель подготовительного тренинга явно недостаточно для соревнования с русскими. «Этого вполне хватило бы у нас внутри, среди клубов НХЛ. Но русские ушли в этом далеко вперёд, и для достижения высших кондиций такого отрезка времени недостаточно. Хотя с учётом расписания и общего число игр, я уверен, мы достигнем высшей формы к решающему моменту».
Весь август хоккейная лихорадка в Канаде шла по восходящей траектории. Никто не ленился (и не стеснялся) делать уверенные и даже самоуверенные прогнозы. За сутки до начала первого матча в Монреале главный хоккейный журнал Северной Америки «The Hockey News» (Новости Хоккея) и главная политическая газета Канады «The Globe and Mail» напечатали обширную подборку прогнозов и предсказаний хоккейных экспертов под заголовками «Что думают эксперты» и «Волнение перед стартом». Приводим выдержки из этих материалов, надеясь, что они будут интересны читателю.
«Мы собираемся победить».
• Горди Хоу, бывший нападающий «Детройт Ред Уингз»
«Мы выиграем все восемь игр».
• Алан Иглсон, директор Ассоциации игроков NHL
«Держу пари, что мы будем побеждать в каждой игре с преимуществом как минимум в три гола».
• Бобби Кларк, центрфорвард "Филадельфия Флайерз" и сборной Канады
«Русские могут выиграть игру или две, хотя я не думаю, что смогут».
• Джек Кент Кук, владелец клуба «Лос-Анджелес Кингз»
«Просить любую команду обыграть другую восемь раз подряд — значит много просить. Но если мы будем использовать свои возможности, мы сможем выиграть каждую игру».
• Джон Маклеллан, тренер «Торонто Мэйпл Лифс»
«Я верю, что лучшие игроки России в конечном итоге обыграют лучших игроков Канады в хоккее. Но не в этом году. Я сомневаюсь, что русские выиграют хоть одну игру в следующем месяце ни в Канаде, ни в России».
• Жак Плант, бывший вратарь "Монреаль Канадиенс"
«Если мы воспользуемся нашим потенциалом и, как я уже сказал, не будем относиться к ним легкомысленно, все будет в порядке. Я был бы очень разочарован, если бы мы не выиграли все игры».
• Жан Беливо, бывший центрфорвард "Монреаль Канадиенс"
«Я ожидаю, что канадцы будут побеждать в каждой игре. Они настолько превосходны».
• Билли Рай, тренер «Чикаго Блэк Хоукс»
«Я не думаю, что серия будет разгромной, но я твердо верю, что мы победим их, и победим их убедительно. Думаю, мы выиграем все восемь игр».
• Ральф Бэкстрём, центрфорвард "Лос-Анджелес Кингз"
«Наши ребята — профи и, на мой взгляд, лучшие хоккеисты в мире. Если они будут использовать свой потенциал, я не понимаю, как русские могут выиграть у них игру. За исключением того, что мы называем невидимой рукой — какой-то случайный рок, который может стать значимым. Если этого не произойдёт, у Канады должно быть восемь побед».
• Скотти Боумэн, тренер "Монреаль Канадиенс"
«Я уверен, что сборная Канады выиграет. Но я очень уважаю русских. Атлетизм у них отличный. Они живут вместе 11 месяцев в году, и они как машины - их мышление сформировано за них. Я не думаю, что они могут адаптироваться и действовать инстинктивно, как это делают наши игроки. Думаю, что сборная Канады выиграет все восемь игр».
• Эл Арбур, тренер "Сент-Луис Блюз"
«Прогнозы на игры будем давать после игр. Мы не делаем их заранее».
• Андрей Старовойтов, секретарь Федерации хоккея России.
«Вы сказали, что сметете нас со льда. Мы говорим, что хотели бы играть и учиться на будущее. Вам придётся исполнить свое хвастливое заявление. Мы же просто будем играть как можно лучше, учась у вас по ходу дела».
• Анатолий Тарасов, бывший тренер сборной СССР.
(What Experts Think — Most Favor Canada Sweep, «The Hockey News», September, 1972, p. 3; Anxious To Start, «The Globe and Mail», September 1, 172, p. 36; Jacques Plante Tells Why We Will Beat The Russians This Year, «The Globe and Mail», 26 August, 1972, A14; “If We Lose Series Hockey Will Gain — Sinden”, «Ottawa Journal», September 2, 1972, p. 22;
No predictions, says Russian hockey official, «Ottawa Journal», August 31, 1972, p. 26.)
Завершая описание атмосферы и событий на родине хоккея, перед приездом сборной СССР в сентябре (ставшим историческим!) 1972 г. для серии матчей, считаем необходимым представить читателю рассуждения о предстоящем соревнований хорошо уже всем известного профессора Ллойда Персиваля, директора Института фитнеса Университета Торонто, Директора Канадской Ассоциации Тренеров. В издаваемом Институтом журнале Sports and Fitness Instructor была опубликована статья Персиваля под рубрикой План Тарасова и заголовком «Постоянные атаки сведут на нет усилия отдельных звезд» (Tarasov Plan. Constant attack will offset individual stars). Эта статья была целиком перепечатана газетой Globe and Mail в период освещения ею работы тренировочного лагеря Команды Канады.
Признаться, столь детального и углублённого анализа (в лаконичном формате журнальной статьи) принципов и методов игры, провозглашенных и претворяемых в жизнь Тарасовым, автору не доводилось читать нигде. Разве что, и то не по всем аспектам, в кандидатской диссертации самого А.В.Тарасова. Персиваль показал тогда настолько глубокое знание и понимание предмета, что характеризуемый Тарасовым как «крупнейший мировой теоретик хоккея», останется на долгие годы в истории этой игры (23 июля 1974 г. он скоропостижно скончался вследствие острой сердечной недостаточности). Мы напомним, что Персиваль трижды по доброй воле обращался к Г.Синдену с предложением обеспечить Team Canada современным спортивно-физиологическим сопровождением в период подготовки. Ответа не последовало. Возможно поэтому, нам показалось, что тон и содержание статьи пронизаны духом и деталями школярского педантизма ментора, разъясняющего нерадивому ученику банальные вещи.
Эта статья довольно велика по объёму (содержит 14 основополагающих пунктов). Приводить даже часть её в данном формате изложения нерационально. Но резюмирующий фрагмент содержания нельзя не процитировать.
«Если и существует базовый план русских, так это то, что они планируют играть на бешеной скорости, чтобы измотать нас и разнообразить свою тактику. Чтобы справиться с ними, сборной Канады нужно будет играть в темпе, к которому её игроки не привыкли, и пытаться как можно сильнее сковывать их контролем.
Соперники сделают все возможное, чтобы форсировать максимально возможный темп, чтобы воспользоваться своим преимуществом в атлетизме и выносливости. И если у сборной Канады «не будет ног», у нас возникнут серьёзные проблемы.
Также следует учитывать фактор специфики физической готовности. Для наших игроков это будет незнакомая манера игры: они будут вынуждены больше чем когда-либо кататься, им придется больше работать над тем, к чему они не привыкли».
Завершая описание атмосферы канадских приготовлений и нетерпеливых ожиданий, мы в качестве микроскопического дополнения приведём ещё одну цитату. Кларенс Кэмпбелл, президент НХЛ, крупнейший администратор с 25-летним стажем руководства сильнейшей хоккейной индустрией мира заявил в предваряющей серию статье: «Победа над русскими будет достигнута, у них есть достоинства, … но в тактике они не разбираются».
В последние дни сентября 1972 г. вся Канада ликовала: столь трудная, но неотвратимая (именно так она воспринималась) победа над Советами показала всем, что, как выражаются канадцы, «это наша игра». И никого не волновало, что победа далась канадцам с огромным трудом, во многом с минимальным превосходством. Главное – это была победа! Достигнутая в открытом спортивном соревновании. Победа, показавшая всему миру, что хоккей НХЛ сильнейший в мире. И если так всегда и уверенно считали только в Канаде, то теперь весь мир, увидев эту победу, вынужден, должен считать точно также. Ибо это ничем опровергнуть нельзя. Так случилось потому, что значение брошенного ей вызова Канада восприняла с полным пониманием и жизнеутверждающей ответственностью. Добавим, что в попутных трёх матчах со Швецией и ЧССР команда Канады не знала поражений – две ничьи и одна победа.

Сказанное выше было главным лейтмотивом в потоке восторженных откликов и комментариев средств массовой информации Канады и США. Где на все лады, в мельчайших и любопытных подробностях освещались завершившиеся восемь хоккейных матчей СССР – Канада и всё, что им предшествовало, сопутствовало и их окружало.
И нет ничего удивительного в том, что такое живое обсуждение, но уже в форме дорогих сердцу каждого воспоминаний происходило и 10 (40-летие), и 20 (30-летие), и 30 (20-летие) лет назад. Происходят они и в эти дни! Как пишут в канадских газетах, «поколение свидетелей Суперсерии 1972 съёживается», т.е. неотвратимо уходит. Совсем мало осталось не только участников, но и сознательных свидетелей этого исторического события. Нынешнее хоккейное поколение совсем не знает и плохо понимает историческое значение того, что происходило в хоккейном мире в сентябре 1972 г. Очень много медийных публикаций по обе стороны океана были посвящены 50-летию этого грандиозного события прошлого. Но они по-прежнему, как и в предыдущие юбилейные даты, лишены критической направленности оценки причин досадного и незакономерного поражения советской команды.

А не зная этого, крайне трудно безошибочно строить (развивать) победную политику спорта, которая может приносить стране большие международные успехи. Не учитывая итогов советско-канадской суперсерии, мы (коллективное «мы») склонны к повторению ошибок (и уже повторяем их), в результате которых была проиграна та незабываемая Суперсерия 1972.
Об этом, и о том, как протекали решающие матчи Суперсерии мы постараемся рассказать в заключительной главе нашего повествования.
Глава 20

Все предшествовавшие главы в нашем повествовании были посвящены истории советско-канадских хоккейных отношений. Главное внимание было уделено той роли, решающей роли, которую в этой эволюции сыграл Анатолий Владимирович Тарасов. Масса объективных свидетельств и многие субъективные воззрения его современников, сослуживцев, учеников являются неопровержимым тому доказательством. Решающей фазой этой почти 20-летней истории стала серия матчей с хоккеистами Национальной Хоккейной Лиги в сентябре 1972 г., которых Тарасов добивался всё это время. Но добившись, оказался отстранённым (вместе со своим коллегой А.И.Чернышевым) от главной цели своей жизни в результате трусливого сговора корыстной номенклатуры спортивных кругов, как Канады, так и СССР.
Всем известно, как завершилось это историческое соревнование (см. выше).
Но за бравурными, самоубаюкивающими утверждениями о «сокрушении мифа непобедимости канадских профессионалов», мы не получили объяснения причин поражения сборной СССР. Как-то стыдливо, по-советски безучастно-безразлично, ускользнули от подлинно спортивной публичной оценки исхода этого соревнования. И вот, спустя десятилетия мы так и не знаем ответа на вопрос, как сложились бы события, останься тогда у руля сборной наш золотой тренерский тандем? Сегодня, как и всегда ранее, в дни торжественного празднования 50-летия этого события его главные, теперь уже немногочисленные герои избегают этой темы. Однако у нас есть возможности для того, чтобы даже в дни юбилея попытаться дать ответ на тлеющий в течение полувека вопрос. Используя известные (но очень не многим) факты и свидетельства участников этой серии матчей, мы можем смоделировать хотя бы вероятность иного хода событий в случае предполагаемого участия отстранённых ранее тренеров советской команды. Читатель уже догадался – мы возвращаемся, теперь уже в последний раз, к вопросу «противостояния двух великих хоккейных индивидуумов». Потому что любителям и знатокам хоккея давно и хорошо известно различие взглядов Тарасова и Боброва на основы этого командного коллективного вида спорта. Они неоднократно описаны в книгах самих спортсменов (В.Бобров: «Самый интересный матч», 1964; «Рыцари спорта», 1971; А.Тарасов «Совершеннолетие», 1963; «Хоккей грядущего», 1970; «Путь к себе», 1974; «Хоккей: родоначальники и новички», 1991) и их биографов (А.Салуцкий, 1987; В.Акопян, 2000; В.Пахомов, 2002; А.Горбунов, 2015; М.Щеглов, 2018;) и не раз были освещены в спортивной кино- и теле-документалистике.
К чему мы ведём? К необходимости обсудить роль тренера в достижении командой СССР известного результата. Разобрать и оценить, по-возможности подробно, решения и действия руководителя команды при подготовке и уже в ходе такого ответственного соревнования, его реакцию на меняющиеся обстоятельства продолжавшегося в течение месяца соперничества.
Напомним теперь читателю, что мы ведём рассказ об истории советско-канадских хоккейных отношений, венцом которых стала в 1972 г. Суперсерия игр сборных СССР и Канады. И подчеркнём, что только с 1957 года начались регулярные встречи хоккеистов двух стран по обе стороны океана, а с 1962 года, т.е. за 10 лет до Суперсерии нашу команду возглавляли два тренера – Чернышев и Тарасов. Под их руководством в это десятилетие на стадионах Канады наши лучшие хоккеисты провели (каждый, в зависимости от призыва в команду) от 40 до 80 с лишним встреч. Более чем в 75% этих матчей наши хоккеисты убедительно побеждали (в 3-х играх из 4-х). Так что опыт такого рода сражений у них был огромный. Чего никак нельзя сказать о тренерах, которые повели их на бой против НХЛ – у них он был просто нулевым. И здесь возникает неизбежный вопрос: чему новые тренеры могли научить закалённых в канадской мясорубке бойцов? Какой капитал опыта и знаний канадского хоккея могли использовать они для мотивации к уверенной победной игре?
А теперь наступает самый трудный, но обязательный раздел нашего анализа тренерской роли в столь ответственных соревнованиях. Для этого, как не покажется странным, мы вспомним историю, условия и характер совместной работы А.И.Чернышева и А.В.Тарасова. Это очень важно для корректного обсуждения и завершения темы «противостояния двух великих хоккейных индивидуумов».
Величина (или измерение) достижений тренера определяется его победами и их качеством. Большое число побед тренеров и призовых мест их команд в турнирах говорят о стабильности и высоком уровне профессионализма. Традиция советского хоккейного устройства, по мере развития этого вида спорта в СССР, сформировала и закрепила важнейший и очень логичный принцип: руководство национальной командой доверялось тренерам сильнейших команд страны. А ими, как мы все знаем, с 1953 года были Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов (в меньшей степени Владимир Егоров). Они и стали (сначала порознь, а в последние 10 лет вместе) бессменными руководителями сборной Советского Союза по хоккею. Славные победы «золотого тандема» известны всему миру, их «спаренная непобедимость» на внешнем рынке сомнений не вызывает. Давайте теперь посмотрим на спортивно-сопернические показатели внутри тандема. Начнём с побед в чемпионатах и розыгрышах кубка СССР. Оба клуба – ЦСКА и «Динамо» (Москва) - под началом своих тренеров соперничали в 27 сезонах подряд (с 1947 по 1974 гг.). В чемпионатах СССР ЦСКА побеждал 18 раз (под руководством Тарасова 17), а «Динамо» 2 раза. В Кубках СССР армейцы одержали восемь (8) побед, а «Динамо» две (2). Всего в этих соревнованиях команды провели между собой 92 матча при 9 ничьих, 18 победах «Динамо» и 65 победах ЦСКА. Победы над своим соперником армейцы одержали в 70>#/b### этих 92-х встреч (+65 =9 ̶ 18). И ещё приведём одно важное сравнение продуктивности работы тренеров в своих клубах. Команды ЦСКА и «Динамо» за эти 27 лет подготовили 50 чемпионов мира и олимпийских игр (37 и 13 соответственно). Резюмируя эти статистические выкладки, констатируем: А.И.Чернышев как клубный тренер «выиграл» у своего коллеги А.В.Тарасова за 27 лет всего два чемпионата СССР (хотя в 1947 г. Тарасов тренировал команду ВВС), и ещё один раз (1962 г.) был на 2-м месте, опередив ЦСКА на одну ступень. Аркадий Иванович именно в том сезоне уверился в объективной необходимости совместной работы с Тарасовым. Во имя достижения желанной цели – создания сильнейшей команды и сильнейшего в мире хоккея. Эти два очень разных человека, объединившись, шли к высшей цели сообща 10 лет. Тарасов – одержимый новатор, деспотичный экспериментатор, рьяный и непримиримый бунтарь, и Чернышев – мудрый, уравновешенный, благородно компромиссный, житейски опытный модератор и громоотвод. Последнего совсем не тяготила позиция «не первого» в отечественном клубном хоккее, а его победный авторитет в сборной команде твёрдо гарантировал ему пожизненное тренерство в «Динамо». И поэтому Аркадий Иванович полностью доверял Тарасову всё, что касалось суровых требований к игрокам. А спортсмены, ощущая единство тренеров, не столько разумом, сколько интуицией и чутьём, разделяли и принимали условия работы, задаваемые руководителями. Они, победители всего и вся, понимали, кому обязаны своим высоким мастерством и славой.

Автору однажды довелось рассказывать («ТРЕНЕР Тарасов», Изд. «Рутена», 2000 г.), как в начале декабря 1998 года во Дворце спорта Лужников ветераны хоккея скромным застольем отмечали 80-летнюю годовщину со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова. На том мероприятии у нас состоялся памятный разговор с моим давним знакомым А.П.Рагулиным. Наше более чем 30-летнее (к тому моменту) приятельство не ограничивалось рамками хоккея. Я хорошо знал маму братьев Рагулиных, Софью Викторовну, которая не один год находилась под наблюдением в нашем НИИ глазных болезней. Александр Павлович, человек с большим чувством «дремотного» (противоположность «искромётного») юмора, был откровенен и радушен в том разговоре.
«Александр Палыч, насколько тренеры Тарасов и Бобров сопоставимы при оценке их работы с командой?», - ограничился я всего одним вопросом.
«Нельзя даже употреблять слово «сопоставимы», это небо и земля! - с лёгкой усмешкой начал Рагулин. – Бобров, став тренером, не перестал быть игроком. Он на хоккей смотрел глазами исполнителя, а не конструктора. Я это ощутил только в марте 1972 г., на первом сборе под его началом. Раньше, когда он тренировал «Спартак», это оставалось незаметным для нас армейцев. А тут я увидел, что ему не даёт покоя техническая оснастка каждого из нас, игроков. На ледовых занятиях главное внимание уделял исполнению технических приёмов, работе с шайбой: броски, точность и удобство голевых передач. Тактические задачи перед игроками формулировал поверхностно, трафаретно. Совсем не уделял внимания вопросам единоборства с соперником один на один, даже технику этого игрового элемента не обсуждал. Упрощал эту задачу, лишь требуя от игрока уклонения от столкновений. Помнишь эти «небылицы» в рассказах спартаковцев (Старшинов, кажется) о меткости бросков Боброва в узкую вертикальную щель загороженных ворот? Вот такие «картинки» наглядно иллюстрируют тренировки Боброва. А также его ценностные категории хоккея – неповторимость мастерства. Он выходил на площадку с нами редко. Но, надев коньки и ступив на лёд, преображался. Катался недолго, но в охотку, моментами пытался вместе с игроками делать ускорения, не уступать им. Его игровой талант был безграничным. Даже в 50 лет рефлекторно-двигательная система этого человека оставалась совершенной. Ведь по человеческой сути Бобров был премьером, лидером, звездой. Даже в качестве тренера он воспринимал игру только как непревзойдённый исполнитель, великий мастер хоккея. Но хоккея прошлого. Находясь на льду, Бобров-тренер тяготел к тому, что лучше всего умел. Тарас же, работая с нами, утверждал, что тренировка предназначена для моделирования невыносимых, тяжелых игровых условий, которых в реальной игре почти не бывает, невозможно представить. Закрепляя такой навык, приучая нас ежедневно(!) к этим трудностям, он считал, и был прав, что любая реальная игра после этого станет для нас «веселой прогулкой». Но для преодоления монотонности больших физических нагрузок Тарасов старался делать эти занятия непохожими друг на друга. Воображение у него было удивительное, каждый день на тренировке возникало что-то новое. И всегда весёлое, озорное, увлекательное. Тарас такими тренировками развивал хоккей, менял его. Например, в ежегодных турне по Канаде на послематчевых пресс-конференциях Тарасов упорно отстаивал тезис о том, что международные правила позволяют играть в более зрелищный, разнообразный, красивый хоккей. Что будущее за такой игрой. Однако, при этом, понимая неотвратимость безжалостного силового соревнования с канадцами, он уже тогда, до разрешения силовой борьбы по всей площадке, насыщал тренировки элементами многочисленных и усложнённых физических противоборств игроков, в первую очередь у бортов. В таких ситуациях он вырабатывал у нас навыки смелого, даже инициативного вступления в силовой поединок с канадцем. Но поединок по времени предельно короткий (потому инициативный – бей первым!). Тем самым он придавал силовой схватке большой тактический смысл, и видел в ней важное средство коллективных усилий команды. Бобров же смотрел на такие игровые ситуации, как на задачу, индивидуально решаемую каждым игроком за счёт быстроты, ловкости, везения. «Просто (легко сказать!) избегайте столкновений». Он считал, что тактика хоккея складывается не через планирование и решение коллективных задач, а вследствие суммации индивидуальных усилий высококлассных мастеров. Это только один частный пример. Тактические разборы, на которых с ним обсуждали варианты коллективных действий, всегда мне казались поверхностными. И сводились они не к анализу взаимодействия игроков, а поиску наилучших индивидуальных приёмов и усилий – будь то оборона, комбинационное наступление или контратака.
Бобров мне доверял, и даже включил меня, потяжелевшего (это я сейчас с пониманием говорю) в состав сборной, чтобы я выиграл 10-ю золотую медаль чемпиона мира. Я это очень ценю! В 1973 г. в Москве был фактически чемпионат Европы, победа была гарантирована. А вот на Тарасова в том же 1973-м я сильно обиделся. Он посчитал, что я в ЦСКА не готов к сезону 1973-74, и дал понять, что на меня не рассчитывает. Я же тогда был уверен, что способен поиграть на хорошем уровне ещё года 3-4. Ошибался. А Тарасов, всё-таки, прозорлив был. Вот что значит мудрость и опыт! ЦСКА провёл тот сезон слабо, проиграл «Крыльям» Бориса Кулагина 11 очков и был в чемпионате вторым. Зато я ушёл из хоккея непобеждённым в чемпионатах СССР. Да и в чемпионатах мира. Думаю, к лучшему.
Бобров, отправляясь на серию в Канаду, не ставил перед нами задачи одержать победу в том соревновании. И не удивительно, ведь Канаду он не знал. Да и хоккей с 1967 года (год завершения хоккейного тренерства Боброва – прим. автора) заметно изменился (одна силовая борьба по всей площадке чего стоит!). Он даже не мог представить той атмосферы, которая царит на их стадионах, когда они играют с иностранцами, особенно с Советами. Нас ведь, «коммунистов», там очень не любили. А мы-то в заполненных «Форуме» (Монреаль) и «Мейпл Лиф Гарденс» (Торонто) играли много раз, и побеждали!»
Таким получилось стихийное «интервью» в виде обстоятельного монолога Александра Павловича Рагулина в 1998 году. Обратите внимание – это анализ и оценка не столько игрока, сколько уже тренера, имевшего к тому моменту немалый опыт работы с молодыми, формирующимися хоккеистами. Профессиональный взгляд армейского тренера, которые в этом клубе все были настоящими.
Размышляя над доводами Рагулина, понимаешь, что Бобров стал первым в истории советского хоккея тренером сборной страны, не «отягощённым» работой с клубной командой (в отличие от Чернышева, Егорова и Тарасова). Даже его заместители (сначала Пучков, а потом Кулагин) были на основной работе тренерами команд высшей лиги. Получалось, что старший тренер выполнял лишь функцию селекционера сильнейших спортсменов, а вся ответственность за их готовность оставалась на тренерах клубных команд. В новом формате руководитель сборной занимался каждодневной работой со спортсменами лишь в короткие периоды подготовки команды к турне и турнирам, и в ходе этих событий. Может быть, Бобров был магом в управлении игроками по ходу игр, дирижируя командой у борта и скамейки запасных?
Мы попытаемся в этом разобраться, рассматривая и оценивая действия старшего тренера в период с чемпионата мира в Праге, и до окончания важнейшего на тот момент события в истории мирового хоккея – Суперсерии 1972.
О пражском чемпионате было коротко рассказано в 18 и 19 главах: упоминалась мотивация перемен в составе команды (что по сей день является притчей в языцех), а также оценка Бобровым вверенной ему команды и итогов чемпионата мира. Здесь будет дана подробная детализация кадровых «обновлений» с упоминанием конкретных персон и их значения для старшего тренера.
Формирование «новой» команды происходило сразу же после победной Олимпиады в Саппоро. Тот чемпионский состав Бобров охарактеризовал как «состарившийся» (6 игроков старше 30 лет), и решил его омолодить. Взявшись за это нелегкое дело, он видимо запамятовал, что сам играл в хоккей до 35 лет, чередуя соревнования с лечением хронических травм в последние годы карьеры. В Прагу были приглашены В.Шеповалов (вместо А.Пашкова), А.Гусев (В.Давыдов), В.Солодухин (А.Фирсов), В.Анисин (Е.Зимин), и в составе осталось 4 человека старше 30 лет. Сборная СССР ни в одном из 10 матчей не проиграла третьего периода (лишь в 2-х ничья!), но проиграла турнир и звание чемпионов мира, отстав от победителя на 3 очка. Мотивация отстранения А.Фирсова хорошо понятна и обсуждалась не раз в последние десятилетия. Вне сомнения это был сознательный акт честолюбивого тренера, демонстрирующего: а) собственный вкус и взгляды на роль премьера в обновлённой команде; б) пренебрежение тактической идеей и качественно новым амплуа Фирсова (а, значит, и всех его партнёров); в) личностное отрицание превосходства игроков нового поколения и новой формации над звёздами былого славного времени. Хрестоматийный пример нескончаемой борьбы увядающего прошлого с цветущим настоящим. Здесь мы спешим принести извинения перед Виталием Семёновичем Давыдовым, который также пал жертвой «омоложения» состава сборной команды СССР перед пражским турниром. Потому что свой рассказ мы должны были начать по старшинству. Динамовский защитник, любимец А.И.Чернышева (и не только его), был самым опытным нашим хоккеистом по канадскому вопросу. Ему довелось сыграть против канадцев за океаном в 86(!) матчах – больше, чем кому-либо из советских мастеров. В одном из таких поединков он получил множественный перелом нижней челюсти в результате умышленно нанесенной травмы. Вместе с тем, несмотря на свой самый солидный из всех наших игроков возраст, 33 года, Давыдов оставался в команде образцовым позиционным защитником.
Отказ Боброва от лучших игроков сильнейших клубов страны, бесспорных лидеров своих амплуа в сборной СССР, стал вызывающим анти-Чернышевско-Тарасовским жестом! На тренерском совете Федерации хоккея руководитель национальной команды, невзирая на аргументы оппонентов, был непреклонен, бесстрастно ссылаясь лишь на возраст отставленных игроков. Между строк так и «читалось»: «Пришло моё время определять лицо сборной Советского Союза. Я не зря ждал этого 15 лет».
Эти главные кадровые перемены перетекли и на период подготовки советской команды к матчам с хоккеистами НХЛ. Но не без попытки Боброва имитировать «возврат» к ветеранам. Для подготовки к играм Серии игроки сборной страны собрались вскоре после летних подготовительных тренировок в своих клубах. Национальная команда планировала провести пять (5) контрольных (выставочных, как называют за океаном) матчей с ведущими клубами и второй сборной. Первым соперником у сборной был ЦСКА. Армейцы (без Тарасова) вышли на игру в своём сильнейшем составе, но со второго периода обе ударных тройки нападающих и три основных защитника уже не играли. ЦСКА провёл оставшиеся 2/3 матча дублем. Между тем, в первом периоде состав ведущего звена форвардов был принципиально «армейского разлива»: Викулов – Фирсов - Харламов. Закончив эту встречу, национальная команда страны удалилась на сбор. И туда неожиданно был приглашён (лично Кулагиным, не Бобровым) Фирсов, которому довелось поиграть в следующем матче, а за день до этого потренироваться. Но Фирсов был не одинок! Другим титулованным ветераном, уже почти год пребывавшим за бортом сборной страны, был Вячеслав Старшинов. Его отлучение от главной команды перед Олимпиадой в Саппоро А.Тарасов объяснил образно и категорично: «Если раньше рядом с опрокинутым на лёд Старшиновым всегда лежали ещё двое соперников, то теперь – никого!» В.Бобров был иного мнения о возможностях своего бывшего спартаковского подопечного. Привлечение 32-летнего ветерана к участию в подготовке, а затем и противостоянии с командой НХЛ было ничем иным, как подчёркнуто демонстративным (см. ниже) анти-тарасовским демаршем, усиленным одновременным иезуитским отстранением Фирсова.
Анатолий Васильевич (А.В.Фирсов, - личное сообщение, 1999), рассказывая о тех трёх днях, не скрывал своего беспощадного сарказма. «Я понимал, что они вызвали меня, дабы, поставив с кем угодно, только не с Валеркой (Харламов) и Вовкой (Викуловым), показать, что я слаб и не гожусь. А я ведь тогда в ГДР на сборе ЦСКА хорошо подготовился! Но про себя подумал: 'что я докажу, если буду лезть из кожи, показывая свой уровень!? Участь моя предрешена, цена борьбы за правду – нулевая. За день до игры на тренировочной раскатке я демонстративно высмеивал заданные нам Кулагиным упражнения. Глупо, конечно, но меня несло. Объединили нас во второй игре (в первой один период за ЦСКА сыграли прежней тройкой, см. выше) с Солодухиным и Женькой Мишаковым. Жека знал, что я буду играть примитивно и формально, для вида. Знал, и разделял мою позицию. Мне тогда вспомнились ухищрения и метания Кулагина в конце 1970 года. Став старшим в ЦСКА, он начал «полоскать» меня по разным сочетаниям. То с Моисеевым и Мишаковым поставит, то с Труновым и Блиновым, то с Анисиным, то центром вместо Петрова! Потом, особенно когда противник медальный был, назад к Викулову с Полупановым возвращал. Так я и не понял, чего он добивался. Хорошо, тогда из ЦСКА быстро «его ушли». И вот 'на тебе, опять под него попал! Всё я понимал в тот момент, и сразу ребятам сказал, что без Тарасова себя в сборной не вижу. Но других к саботажу не призывал – у каждого свой взгляд, кому и как служить. Много позже я в нескольких интервью рассказывал, что Бобров даже приписывал мне тогда, в кулуарных разговорах, конечно, очень серьёзное заболевание. Мол, из-за этого не будет Фирсов играть с канадцами, по состоянию здоровья. Бог ему судья! Уже 20 лет как его нет, все там будем!»
Таким был, за год до скоропостижной его кончины, рассказ Анатолия Фирсова об «участии» в Суперсерии 1972.
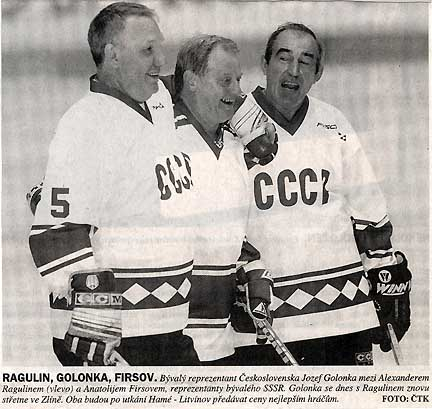
Вернёмся от воспоминаний великих, давно уже почивших трёхкратных олимпийских чемпионов к событиям тех дней августа-сентября 1972 года. Суперсерии немного не повезло со сроками проведения состязания. Одновременно с канадской частью игр (4 матча) на земном шаре бушевали ХХ (летние) Олимпийские игры в Мюнхене (вплоть до 11 сентября), которые для СССР вот уже 20 лет считались важнейшим спортивно-политическим событием каждого четырёхлетия. Поэтому основное внимание руководства страны было приковано к соревнованиям в Мюнхене, где советская команда уверенно опережала (и опередила) олимпийцев США в борьбе за золотые медали - 50 (абсолютный мировой рекорд!) против 33 – и победила в общекомандном зачёте. Весь этот фейерверк достижений социалистического спорта (в многообразии летних видов) ослепил сознание властной номенклатуры, включая, естественно, переполненного гордостью за свои победы «министра» Павлова. На этом фоне первоначальный успех наших хоккеистов (+ 2 = 1 ̶ 1) на канадской земле стал, конечно, приятным «сюрпризом», но не выглядел для нас самих ошеломляющим. Тем более, что впереди маячила вторая половина соревнования, в Москве. И теперь, весьма соблазнительно, она представлялась многим вполне радужно перспективной, и даже вселявшей почти уверенность в общей победе.
Как протекала первая половина состязания на родине хоккея, мы попробуем описать с позиции противостояния разных политических систем и их отношения к спорту, как общественному явлению.

Канада, предвкушая пир победного духа, готовилась к приезду советских спортсменов очень ответственно. Ожидалось, что нашу делегацию будет возглавлять какой-либо государственный чин (вдруг, большой любитель хоккея вице-премьер Н.Тихонов?), но этого не случилось. Даже руководители нашего спорта были всецело заняты летней Олимпиадой. У делегации были два формальных главы – зам. председателя Спорткомитета СССР Г.Рогульский и ответственный секретарь Федерации хоккея А.Старовойтов. Вечером 30 августа советских гостей разместили в фешенебельном отеле «Королева Елизавета» (“The Queen Elizabeth”), а каток для тренировок на следующий день (в 10:30 и 20:00) предоставили в монреальском предместье Сэн-Лорэн (St.Laurent). Знакомство с катком знаменитого «Форума» состоялось утром 1 сентября, за сутки до первой встречи команд (последний раз до этого советская команда играла на «Форуме» 29 декабря 1969 г.). Тренер канадцев Синден посетил эту тренировку русских, захватив с собой ряд игроков команды. Был на тренировке и С.Боумэн, главный тренер «Монреаль Канадиенс», наш давний соперник (помните 1957 год?).
Ступив впервые на канадскую землю, Всеволод Бобров, новый руководитель национальной команды СССР, сразу стал объектом пристального внимания и интереса журналистов. Его тяготило это весьма непривычное (и ответственное!) положение. Брифинг состоялся после первой тренировки на льду (на катке уже упомянутого пригорода Сен-Лоран). Красноречием и даром полемиста Всеволод Михайлович явно не обладал, но находчивость игрока его не подводила. На один из первых вопросов о слабостях советской команды тренер лаконично ответил, что судить об этом следует после первого матча. Вообще же интервью обнажило полное незнание Бобровым канадской хоккейной кухни. То он искал неубедительные сопоставления с прошлым: «В 1954 году, когда мы впервые встретились с Канадой в Стокгольме, победа далась русским тяжело. Тогда мы играли с любителями. Сейчас мы играем с профессионалами, и я думаю, что это будет сложнее». То, видимо, пытался изобразить осторожность в оценке соперника: «Нам не привычен стиль игроков НХЛ (???). У нас не было достаточной информации, чтобы хорошо подготовиться к играм. У нас не сложилось впечатления о канадской команде». Кто-то из журналистов язвительно парировал: «Как и у самой канадской команды. Она ещё ни с кем не играла». Умиление вызвало откровение Боброва о непривычных размерах хоккейных площадок: «Кроме того, каток немного тесноват. В России за воротами больше места» (“The Ottawa Citizen”, 01.09.1972)

Серия игр, ставшая исторической, началась первым матчем в субботний день 2 сентября 1972 года. Знаменитая хоккейная арена «Форум», принадлежащая клубу «Монреаль Канадиенс», была заполнена предельно (18 818 зрителей, рекорд), царила праздничная атмосфера. Органист стадиона чередовал североамериканские популярные мелодии с русскими. Последним элементом торжественности открытия серии стало церемониальное вбрасывание шайбы, которое под овации трибун и в присутствии руководителей обеих команд произвёл премьер-министр Канады Пьер Э. Трюдо.
Два матча этой продолжительной серии встреч (8 игр) стали особенно символичными – первый – премьерный, и последний – решающий. Мы уделим им особое внимание, но будем касаться и других, тоже по-своему значительных игр.
Счёт 7:3 в пользу сборной СССР не отражает соотношения затраченных обеими командами усилий – они были равными. Команды сделали равное число бросков по воротам соперников (Канада - 32, СССР - 30). Из них число голевых ситуаций было также примерно равным. То есть атаковали команды друг друга с одинаковой частотой. Как же возникла такая разница в счёте? Во-первых, качество атак советских игроков оказалось намного выше – они были разнообразнее и быстрее. Во-вторых, Владислав Третьяк оказался непробиваемой стеной перед хотя и убойными, но прямолинейными щелчками и бросками канадцев. Предсказание Ллойда Персиваля под названием «план Тарасова» сбылось полностью, до деталей! «Соперники сделали всё, чтобы форсировать максимально возможный темп, используя своё превосходство в атлетизме и выносливости». Для игроков команды Канады это была «незнакомая манера игры: они были вынуждены больше, чем когда-либо кататься, … больше работать над тем, к чему они не привыкли».
Этот матч наблюдали по телевидению 12 миллионов канадцев (22 миллиона населения) и 100 миллионов советских граждан (245 миллионов населения). В тот вечер родина хоккея пережила ощущение шока. Как удачно написал Э.МакКейб (Eddie MacCabe), спортивный колумнист «Ottawa Citizen», «Вечер, начавшийся почти истерически, закончился исторически». Действительно, сливки канадского хоккея потерпели первое в истории поражение от иностранной команды. Поистине историческое событие.
Сборная СССР продемонстрировала образец школы советского хоккея, основой которого являлись коллективизм усилий в виде комбинационной игры и высокое мастерство игроков на базе максимального атлетизма.
Комментарии по горячим следам были искренними и бесчисленными. Никто не остался безучастным – игроки и тренеры, администраторы и политики, бизнесмены и, естественно, журналисты и комментаторы. Мы сначала процитируем участников матча. Канадские тренеры и игроки не скрывали своего разочарования игрой, но были откровенны.
Г.Синден: «Кто сказал нам, что мы всё знаем о хоккее? Мы? Сами себе!? У русских есть чему поучиться, особенно мастерству паса и комбинационной игре. Я был ошеломлен тем, как хорошо они играли. Обещаю, что во второй игре серии мои игроки не будут так много бегать» («…вынуждены больше, чем когда-либо кататься»).
Дж.Фергюсон: «Они чертовски хороши, а мы играем так, как это обычно у нас получается в начале сезона. В середине сезона мы станем лучше, но даже эти наши «все звёзды» не будут обыгрывать сильнейших русских в каждой игре. Они играют последние 30 секунд матча так же сильно, как и первые 30 секунд (NB). А мы пока к концу матча сдаём».
Синден утверждал, что Канада проиграла по всем статьям, и его особенно поразило великолепие индивидуальных действий советских игроков. «Не было и малейшего ожидания их способности обыгрывать нас в ситуации один-на-один. Мы знали, что нас поразит их быстрая игра в пас, но никак не думали о столь сильных индивидуалистах». Получалось ровно так, как предсказывал Бобров в ходе его беседы с Синденом в Москве, в июле месяце? Ещё одному важному обстоятельству старший тренер Канады уделил немало внимания: он не мог согласиться, что канадцев подвела самоуверенность. Он настаивал на том, что Канада знала, сколь грозный соперник её ожидал. Но после матча тренер искренне признался: «Меня посетило, конечно, чувство удивления, но и прозрения, чему я очень рад: следует уважать своего соперника. Конечно, мы испытывали к ним уважение перед встречей. Но весь вопрос в том, до какой степени. Мы знали, что они хороши, но были удивлены, что настолько хороши! Теперь это не вызывает никаких сомнений».
Гэри Бергман, лучший в той игре защитник Team Canada, яростно не соглашался с утверждением, что отдельные игроки канадцев недооценили соперника: «Не могло быть и речи о легкомысленном восприятии противника. Мы знали, что предстоит сражение, потому что это худшее для нас время года, чтобы показать хорошую игру. И нам очень тяжело сплотиться в должной мере для борьбы с командой, которая всегда работает сообща. Невозможно ожидать от команды, впервые собранной вместе из 35 человек, что она «по щелчку» в первой игре покажет всё лучшее, на что способна. Мы знали, против кого выходим играть – против команды в подлинном смысле слова, против машины». Бергман заверил, что Команда Канады очень скоро станет подлинной командой (в советском смысле), чтобы победить в этой серии.(04.09.1972)
Послематчевую пресс-конференцию В.Бобров не посетил, там очень лаконично на вопросы отвечал Б.Кулагин (и мы ещё вернёмся к его блистательному резюме). Но старший тренер советской сборной обсуждал победу своей команды на следующий день в Торонто, где вечером 3 сентября в Sutton Place (роскошный отель, где была размещена сборная СССР) проходил приём в честь советской делегации. Тренер признал: «Эта наша игра была лучшей за период моего руководства командой. Через 10 минут после начала матча мы поняли, что канадцы обычные люди (NB). Главным фактором такого исхода встречи была физическая подготовка. Мы знали, что профессионалы в этом сильны, но в субботу поняли – их атлетизм был не тем, каким мог быть. Что касается Третьяка, то это был его обычный уровень игры. Чем сильнее соперник, тем надежней играет наш вратарь». Через сутки после своей страстной реакции на поражение Г.Синден представил как детальный анализ случившегося, так и план на следующую игру. Своей ошибкой он признал игру в две пары защитников (с редким подключением пятого игрока). В третьем периоде они никуда не успевали, результатом чего были три гола от русских. Тренер решил заменить 8(!) хоккеистов на игру в Торонто. Игроки со свежими силами нужны ему для форчекинга в чужой зоне, хотя он и понимает существующее отставание от русских в выносливости и быстроте движения. И надеется, что этот дефицит через 2-3 матча будет восполнен. (04.09.1972)
Завершая в Монреале послематчевую конференцию, проходившую в атмосфере охватившей журналистов оторопи, Борис Павлович Кулагин как бы безучастно в последней фразе беспощадно заметил: «Обе команды обогатились от этой игры. Я так понимаю, некоторых ваших лучших игроков здесь не было?»
Следующий матч в Торонто, второй в серии, проходил в равной борьбе. Наша команда столкнулась с некоторыми тактическими уловками тренеров Team Canada, позволявшими часто нарушать комбинационность действий советских хоккеистов. Так, по числу атак и бросков по воротам соперника канадцы превзошли нас почти в 2 раза. Тем не менее, по явным голевым моментам мы не уступили канадцам, но наши форварды в неоднократных скоростных выходах (в том числе и «один на один») были не точны. К этому следует добавить весомый вклад вратаря Тони Эспозито, игравшего безупречно.
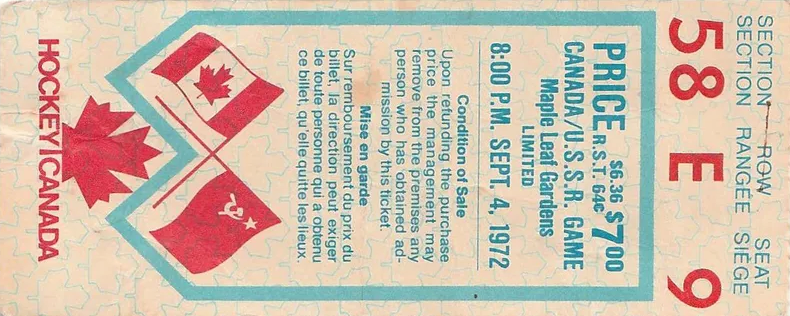
Безусловно, перемены в игре канадской команды (новые тактические ходы + замена 8 игроков свежими силами) не могли не отразиться позитивно на качестве их игры, а нашим хоккеистам создали дополнительные трудности. Но и наши боевые порядки подверглись изменениям, на поверку, правда, лишенным какой-либо осмысленности. Причины перестановок и замен игроков не были обнародованы. Однако их формат не мог не вызвать удивления. Заменены были всего два игрока – Ю.Блинов и В.Викулов – быстрые и ловкие крайние нападающие. В состав вошли В.Старшинов и В.Анисин, практически не выходивший на площадку. Фактически один отяжелевший, никуда не успевающий центрфорвард заменял на льду двух стремительных высокотехничных игроков. Вся спортивная и славная карьера супербомбардира Вячеслава Старшинова строилась на его исключительном даре поражать ворота соперников с дальнего пятачка (High Slot, см. Глава 19). До тех пор, пока хватало сил и быстроты рук, забивать голы центрфорвард любил и успевал.* (* Жадный был до невозможности. Говорил: "То, что попало ко мне на пятак, даже не просите. Я всё туда…" (Б.Майоров). К 30-ти годам такая способность заметно поубавилась, но амплуа игрока осталось прежним. К выполнению других функций на поле Старшинов готов не был. Придав ему в качестве партнёров Мальцева и Харламова, тренер Бобров создал фактически обескровленное звено атаки. Наши фланговые нападающие действовали в одиночку, связь между ними Старшинов обеспечивать не успевал. Комбинировать между собой разделённые большим расстоянием форварды не имели возможности. Высокорослым центрфорвардам канадцев даже не приходилось вести со Старшиновым силовой борьбы – они его просто всегда опережали, как в обороне, так и в атаке. А тренеры ничего не изменили в расстановке и действиях этой тройки нападающих до конца матча. Ни в одной из последующих 6 встреч этой серии В.Старшинов не был даже заявлен на игру.
Наш подробный анализ характера действий даже одного звена советской команды, наглядно демонстрирует, что Бобров не ставил перед командой цели одержать в этом матче победу, стремиться к ней. Его задача явно сводилась лишь к игровым действиям приспособительного свойства, рассчитанным на так хорошо знакомый одержимый атакующий порыв Team Canada. Соперник же проявил дальновидность, терпение, расчет и строгую организованность в выполнении тактических задач игры.
Ещё один чрезвычайно важный аспект советско-канадского противостояния следует рассмотреть, возвращаясь к сюжету второго матча в Торонто. Пожалуй, именно в этой игре была заложена мина замедленного действия той свирепой игры, которую команда Канады начала упорно навязывать нашим хоккеистам в трех заключительных матчах серии в Москве. А в Торонто произошло следующее.
Мы уже говорили, что тренеры канадцев требовали от своих фланговых нападающих неустанной борьбы с защитниками соперника за возврат шайбы в глубине зоны атаки (чужой зоны). В помощь им, увязавшим в этих трудных единоборствах, было разрешено подключаться и центрфорварду. За минуту до окончания 2-го периода Г.Цыганков, двигаясь с шайбой вдоль лицевого борта за своими воротами, подвергся силовой атаке Б.Кларка. Цыганков в том столкновении устоял, а Кларк, падая спиной на лёд, нанёс ему наотмашь удар клюшкой по плечу. Примчавшийся к этому месту Р.Эллис ввязался в новую борьбу за шайбу и был остановлен Цыганковым резким прижатием к борту не без использования задержки/удара локтем. Судья Стив Даулинг (Steve Dowling) дал немедленный свисток на удаление. Негодованию Цыганкова, получившего до этого откровенный удар клюшкой почти в лицо, не было предела. Но главного события, произошедшего сразу после свистка, телезрители видеть не могли. Телекамеры, расположенные в верхнем ярусе трибун, «не доставали» до пространства вдоль бокового борта, где располагалась скамейка штрафников, куда подъезжает арбитр, формулирующий наказание. Через мгновение все телезрители увидели, как на скамью штрафников за Цыганковым последовал В.Харламов. Эпизод, оставшийся вне видения телезрителей, описывает сам его участник, один из судей встречи, «виновник» удаления Цыганкова и Харламова, американец Стив Даулинг: «Был пенальти, который достался россиянам в конце второго периода. Когда он был мною назначен, Хармалова захлестнуло возмущение. Он подъехал ко мне достаточно близко, казалось, чтобы ударить меня. Но физически он не нанёс мне удара, но зато, двигаясь в мою сторону, он «воткнулся» в меня. А если игрок ударяет (толкает) судью в момент протеста, то это 10-минутное нарушение».
В неписаных нормах поведения участников игр НХЛ, атака судьи на площадке после объявленного им наказания является святотатством, самым тяжким «смертным грехом». Тренерский штаб сборной СССР не имел об этом ни малейшего представления, хоть и посещал (Чернышев, Кулагин) специальный судейский семинар НХЛ во время своего «разведывательного» визита в Канаду. Можно себе представить, какой недобрый след тот жест Харламова, соперника-иностранца, оставил в памяти игроков команды НХЛ. Именно тогда наш выдающийся мастер, ещё не успев взлететь на вершину мировой хоккейной славы, уже получил «чёрную метку» от канадцев. С этого момента Валерий стал объектом неустанной охоты самых жестких игроков (Кларк, Бергман, Кэшман) канадской команды во всех последующих играх. Выходку В.Харламова усугубило ещё одно обстоятельство. Президент клуба «Торонто Мейпл Лифс», хозяин арены «Мейпл Лиф Гарденс» знаменитый Харолд Баллард в день матча в Торонто заявил, что готов немедленно заплатить за Валерия Харламова 1(один) миллион долларов США. Ровно такую сумму, которая потрясла всю Канаду три месяца назад при обнародовании нового контракта сильнейшего нападающего НХЛ Бобби Халла. «Я серьезно это заявляю, — сказал Баллард. «Я заплачу за него деньги прямо сейчас. Я не видел ничего, чего он не мог бы сделать, и хотя он немного выскочка, он мог бы стать суперзвездой в НХЛ. Он может все».

Канада выиграла тот жизненно важный для себя матч. Матч, в котором судьи из США (обслуживавшие в сезоне матчи AHL/АХЛ) откровенно «помогали» хозяевам. Матч, который сборная СССР должна была и могла выиграть, обернулся нелепым поражением. Хотя у многих канадцев он оставил впечатление доблестной и уверенной победы сборной НХЛ. Отсутствие у команды СССР конструктивной цели в той игре было следствием безыдейности новоиспеченных (всего-то полгода работы с 9-кратными чемпионами мира!) тренеров команды.
Сборная СССР отменно провела оставшиеся два матча первой половины серии. Канадцы, сочтя свою тактическую новинку второй встречи ключом к дальнейшим успехам, ошиблись и откровенно просчитались. Играя через день («… небывало частый режим матчей для Национальной хоккейной лиги в предсезонном периоде»; Г.Синден, 9.09.1972) с более тренированной и лучше атлетически готовой советской командой, изнурённые канадцы смогли в этих играх взять лишь одно очко (ничья и поражение). Наша команда, ничего не меняя в рисунке игры и манере действий, завершила свой восьмидневный марш по городам Канады убедительной победой в Ванкувере. Мы увидели тот хоккей советской команды, который в течение 10 лет создавали и оттачивали её игроки и тренеры на канадском хоккейном полигоне. За те 10 лет на стадионах Северной Америки наши спортсмены провели против канадских хоккеистов сто (100) матчей: 77 побед, 5 ничьих, 18 поражений.
В первой декаде сентября 1972 года к ним добавились ещё 2 победы, одна (1) ничья и одно (1) поражение.
Каковы же промежуточные итоги выступления сборной СССР в Канаде?
Какие выводы сделали советские тренеры, впервые открывшие для себя этот незнакомый хоккейный мир?
Между играми В.Бобров, комментируя происходящее, нередко заглядывал в будущее, рассуждая о предстоящих встречах в Москве. Так, после ничейного (4:4) матча в Виннипеге, где молодое звено нападающих «Крыльев» Лебедев – Анисин – Бодунов добило лидировавшую Канаду, старший тренер резонёрствовал по поводу важности омоложения состава. «Мы использовали звено очень молодых игроков, не имевших опыта мировых чемпионатов», - сказал Бобров, сделав также акцент на их первом визите в Северную Америку. «Дома у нас есть намного более опытные игроки. Это хорошо вам известные ветераны Фирсов и Давыдов, они будут играть в московских матчах. А здесь мы даём молодёжи возможность приобрести опыт международных встреч» (Советский тренер осторожен. НХЛовцы первоклассны, но совсем не боги». Автор Всеволод Бобров. Специально для Globe and Mail.
«В этом году произошло долгожданное событие: сборная СССР провела четыре встречи в Канаде с командой, состоящей из лучших профессиональных хоккеистов страны. Эти встречи вызвали огромный интерес во всем мире. И хоккеисты оправдали ожидания. Игры были захватывающими.
Однако волновали они только зрителей. Для игроков каждый матч был проверкой характера и проверкой навыков. Все встречи проходили в жестких силовых поединках: приходилось бороться за каждый метр площади, российские игроки Харламов, Якушев и Михайлов поражали даже искушенных канадцев. Не избегая телесного контакта, они стремились к нему.
Итоги канадского тура в численном виде хорошо известны: мы одержали две победы, одна игра завершилась вничью, и один матч в Торонто выиграла команда НХЛ.
Но тренерам и хоккеистам не стоит обольщаться. По возвращении в Москву я услышал суждения, что канадские профессионалы разочаровали; что они не такие сильные.
Я с этим не согласен, конечно.
Канадцы не боги, как считали многие наши болельщики. Но они, бесспорно, первоклассные игроки.
Правда, в начале сентября профессионалы ещё недостаточно подготовлены. Но в Москве они собираются показать все, на что способны. И они способны на многое, по правде говоря.
Все игроки канадской команды – от самых опытных до молодых – хорошо ведут силовую борьбу. Все обладают сильным и точным броском.
Когда мы уезжали в Канаду, нам рассказали о комментариях канадских тренеров, наблюдавших в Москве тренировки сборной СССР. В прессе они писали, что разница в мастерстве наших и канадских вратарей огромна, канадцы намного лучше. Тем не менее, матчи СССР – Канада позволили оценить класс игры наших и канадских вратарей. Во всех четырех встречах Третьяк был сильнее его канадских коллег.
Это не значит, что вратари в Канаде слабые. Во-первых, и Драйден, и Т.Эспозито (в меньшей степени) ещё не достигли пика формы. Во-вторых, они столкнулись с манерой атакующих действий соперника, совершенно незнакомой для канадцев.
Профессионалы привыкли к сумбуру ударов по воротам. Но такие броски чаще, если не всегда, выполняются с больших или средних расстояний. Наши нападающие играют с шайбой значительно дольше, разыгрывают её значительно быстрее в непосредственной близости от ворот. Такие действия настолько нервировали Драйдена, что он начал ошибаться. Но я повторяю, оба канадских вратаря способны показывать более надёжную игру.
Канадские защитники не достаточно маневренны. Но этот недостаток профессионалы компенсируют образцовым умением вести силовую борьбу. Правда, надо признать, что канадские защитники часто рискуют. Они не всегда успевают вернуться на свои позиции после потери шайбы, что влечёт угрозу для их ворот. И наши игроки, по крайней мере, трижды, играя в меньшинстве, с успехом использовали такие ошибки. Это происходило потому, что в канадском профессиональном хоккее быстрые контратаки – явление редкое. И нам удавалось, мгновенно развивая контратаку, заставать канадцев врасплох.
Ещё одно умение канадских защитников я бы поставил им в плюс. У нас было немного защитников, кто подставлял себя под броски шайбы. Это Рагулин, Иванов, Ромишевский. В канадской команде каждый защитник поставляет себя под шайбы, чтобы блокировать бросок по воротам.
Бросок это главное оружие канадских форвардов. При малейшей возможности они бьют, бросают по воротам и устремляются к ним, чтобы завершить атаку. Я слышал, что некоторые считают такую тактику примитивной. Я бы трактовал это по-иному. Это для нас действительно не обычно, это порой раздражает однообразием, но это очень рационально. И я думаю, что наши хоккеисты поступят правильно, если будут осваивать такой рационализм.
Национальная команда СССР ошеломила хозяев бешеным темпом. И главное состояло в том, что мы были способны поддерживать такой темп до самого конца каждого матча.
Встречи в Канаде, и предстоящие в Москве вне всяких сомнений окажут большое влияние на дальнейшее развитие хоккея, как канадского, так и нашего.
Уже сейчас понятно, что в нашей системе тренировок что-то требует изменений, как требует изменения и манера игры. Несомненно, мы также должны принять во внимание новейшие тенденции по подбору игроков».
Теперь и мы позволим себе резюмировать итоги первой, канадской половины Суперсерии 1972 г. (как это не покажется смешным спустя 50 лет).
Промежуточный итог этой части соревнования в числовом выражении, несомненно, выглядит превосходно. Две победы против одного поражения – это безусловный успех. Но это был успех, достигнутый без сверхусилия, без постановки сверхзадачи. Наша победа в первом матче стала для всей Канады столь ошеломляющей, что пошатнула национальное достоинство каждого канадца. Была она в немалой степени и сюрпризом для нас самих. Ведь полную уверенность в своём превосходстве наши игроки ощутили только в начале третьего периода, когда поняли, что у сборной Канады «не стало ног» (Л.Персиваль, см. выше). Это важнейшее обстоятельство совершенно не было использовано нашими тренерами в следующем матче в Торонто. Подлинный тренер-стратег не мог не ожидать от соперника (да ещё такого маститого, «оскорблённого» поражением) серьёзной работы над ошибками во втором матче. Предвидя их (если бы пытались или были способны предвидеть), тренеры сборной СССР обязаны были соответствующе обосновать новое игровое задание на вторую игру. Этого не произошло, команда играла так же, как и в первом матче. Канадцы же действовали уже по-новому, потому и победили. А ведь было совершенно ясно, что за двое суток, прошедших после дебютной встречи команд, у канадцев никак не могли «появиться ноги». Атлетизм наших спортсменов позволял проводить второй матч в том же, и ещё более ураганном темпе, употребляя для этого обновлённые тактические коллективные действия игроков. Канадцы были бы не в состоянии этому дОлжно противодействовать (что и показали затем две оставшиеся игры). Победа во втором матче должна была стать стратегической сверхзадачей советской команды и позволила бы ещё больше сломить дух соперника, делая в перспективе его общую победу практически недостижимой.
Глава 21

Написание этой заключительной главы, как многие догадываются, представляло особую трудность. Во-первых, начатое за месяц до 50-летия SS1972, оно неоднократно откладывалось и продлевалось из-за концептуальных противоречий в связи с обновлённой информацией о событиях такой давности. Что потребовало изменений в сценарной линии повествования. Соответственно, намеченные автором сроки завершения всей работы были постыдно сорваны. Хотя читательская аудитория вряд ли об этом догадывалась, поскольку временной лимит сроков публикации являлся всецело авторским самоограничением, при полной свободе и неограниченности в этом со стороны издателя (портал histrf.ru).
Итак, к делу.
Непродолжительная пауза между канадской и московской сериями матчей была отмечена рядом интересных информационных событий. Канадская Пресса (CP, Canadian Press – независимое новостное агентство Канады для печатных и вещательных платформ) широко тиражировало откровения тренеров Team Canada об их внезапном интересе к англоязычной версии книги А.Тарасова «Путь к Олимпу» (мы писали о ней в Главе 12). Г.Синден и Дж.Фергюсон расхваливали на все лады оригинальные тренировочные методики автора, сочтя их полезными для улучшения физической формы игроков перед оставшейся половиной матчей. Влияние Тарасова на стиль игры сборной СССР признавалось ими бесспорным. При этом, тренеры не скрывали, что узнали о книге недавно, хоть и спустя 4 года после её появления в Канаде. (11.09.1972). Этот информационный вброс представляется нам осознанным актом противостояния тренерского штаба многочисленной критике их пренебрежительного отношения к экспертным рекомендациям ряда канадских специалистов (Б.Харрис, Л.Персиваль и др.).
Общеизвестно, что визиту Team Canada в СССР предшествовал её «заезд» в Швецию для двух матчей с национальной сборной. Главной причиной, помимо возобновления отношений с европейским хоккеем, являлась жизненная необходимость адаптации и привыкания к игре на площадках европейского (или международного – по правилам МФХЛ) стандарта. Такие размеры хоккейных коробок были совершенно незнакомы мастерам НХЛ. Кроме того, заблаговременный приезд на европейский континент гарантировал канадцам к началу матчей в СССР полную независимость от синдрома смены часовых поясов.
В Швеции традиционно недолюбливали канадскую школу хоккея за доминирующие в ней излишнюю жесткость и силовую манеру действий по поводу и без повода. Неприятие такого стиля игры старательно подогревала шведская пресса. Ещё в 1961 г. короткое шведское турне «Трейл Смоук Итерс» перед чемпионатом мира вызвало шквал справедливых возмущённых отзывов об игре команды №2 любительского хоккея Канады. Местная печать призывала выставлять против канадцев сборную боксёров Швеции. Именно с той поры шведская хоккейная общественность не упускала любого повода подчеркнуть высокомерие и самодовольство представителей родины хоккея. Выступление Team Canada в Швеции не стало исключением. Обе игры, особенно первая, проходили в условиях частых силовых стычек, инспирируемых обеими сторонами. На этот раз не обошлось без кровопролития. Уэйн Кэшмэн (Wayne Cashman) получил травму от У.Стернера, который непреднамеренно крюком клюшки рассёк канадцу язык, да так, что потребовалось хирургическое (наложение швов) вмешательство. В последующем игроки обеих команд непрерывно обменивались взаимными довольно оскорбительными высказываниями (английский язык неофициально признан вторым языком в Швеции). Дело почти дошло до всеобщей потасовки, когда Вик Хэдфилд (Vic Hadfield) клюшкой сломал нос Л.-Э.Шёбергу, и чуть не произошло вмешательство полиции с использованием дубинок. Сборная НХЛ, завершив две игры со счётом 4:1 и 4:4, оставила в Швеции самое нелицеприятное впечатление. Но главной цели она достигла – приобрела первый опыт командных действий на площадках непривычных размеров, столь важный для предстоящих игр против СССР, в которых потребуются только победы. Кроме того, канадцы познакомились с европейским стилем судейства (международного, как его называют за океаном), практикуемого в соревнованиях МФХЛ. Эта манера судейства не согласуется со стилем поведения североамериканцев, допустимого в Северной Америке не столько буквой правил, сколько их трактовкой и судейскими решениями. Поэтому тренеры Team Canada сделали очень важный вывод об опасности получения «глупых» удалений в предстоящих играх с русскими. Наконец, главное, что всем продемонстрировали матчи в Швеции: атлетическая готовность и, прежде всего, игровая выносливость канадцев заметно возросли в сравнении с первой декадой сентября (здесь мы не можем согласиться с противоположным мнением Б.Майорова («СС»(?), IX.1972). Во второй встрече (запись первой игры сегодня недоступна) канадцы без устали боролись со шведами до последней минуты матча, не уступая им ни в скорости, ни в страсти к достижению результата.
Не будем касаться политико-дипломатических аспектов визита спортивной делегации Канады в Москву, хотя они оказали несомненное влияние на спортивный исход этой серии матчей. Ограничимся, как мы намеревались с самого начала, исключительно спортивной стороной вопроса.
Естественно, что по прибытии в Москву, канадцы оказались в центре самого пристального внимания – и административных работников Спорткомитета СССР, и журналистского (не только спортивного!) сообщества, и многочисленных хоккейных специалистов, и любителей хоккея. Поначалу особый интерес вызвали, конечно, тренировки Team Canada на льду Лужников. Ничуть не меньший, чем аналогичные занятия сборной СССР в Монреале и Торонто. Одна лишь разница этих событий заключалась в том, что канадцы столкнулись с малознакомым оснащением самой ледовой площадки Дворца спорта. Хотя оно соответствовало современным требованиям МФХЛ, натянутые (да ещё не везде вертикально) заградительные сетки (канадцы назвали их «рыболовными») вдоль лицевых (за воротами) бортов площадки и отсутствие малых заградительных пластиковых щитов вдоль части боковых бортов вызвали временное недоумение гостей. Непредсказуемость отскока шайбы от такой сетки, который канадцы пытались изучить на тренировке опытным путём, была несомненной.


Тренировки канадской команды во Дворце спорта Лужников посетили многие действующие хоккеисты (в том числе игроки сборной СССР), а также славные ветераны прошлых лет. С канадской стороны самой заметной фигурой был канадский гость Жан Беливо, многолетний капитан «Монреаль Канадиенс», завершивший карьеру игрока весной 1971 г. Очень внимательно наблюдал за работой канадцев 6-кратный чемпион мира Вениамин Александров. Присутствовали на трибуне и участники серии В.Викулов, В.Харламов, В.Третьяк и другие. Но самой по-настоящему заинтересованной фигурой среди наблюдателей был старший тренер хоккейной команды ЦСКА Анатолий Тарасов. Хорошо знакомый и почитаемый канадской журналистской братией, он в новом для себя и иностранных репортёров качестве, вызывал самый пристальный интерес. Давний историограф советского тренера знаменитый канадский колумнист Джим Праудфут (Jim Proudfoot) посвятил Тарасову целую колонку в «Toronto Star» (22.09.1972). Нам она представляется очень проницательной, приводим её ниже.
Тарасов выбрасывает свой блокнот
Было что-то новое в Анатолии Тарасове вчера, когда он бездельничал на сиденьях в Московском дворце спорта и наблюдал, как сборная Канады трудится на своей первой тренировке после прибытия в Советский Союз. Мы какое-то время всматривались в Большого Медведя, и вдруг стало понятно, что в нём поражает. Конечно! Он не вел свои непрерывные записи, как делал это всегда, когда был тренером всепобеждающей советской национальной команды. Может быть, «товарищам», наконец, больше нечему учиться у игроков высшей лиги после установления явного превосходства в первой половине восьмиматчевого противостояния между двумя ведущими хоккейными державами мира?
Возможно ли, что полковник Тарасов начал искать иные источники знаний для включения в свою бесконечную серию учебников по науке и философии хоккея? Иными словами, можно ли интерпретировать отсутствие блокнота и ручки как некий удар по сдувшимся профи, тонкий намек на то, что им больше нечего предложить?
Тарасов высмеял это предположение, прежде чем скрыться, что явно было уклонением от дискуссии. Чего он никогда не избегал в славные годы, предшествовавшие марту, когда он ушел со своего поста в национальной сборной и был заменен бывшим партнером по нападению. Всеволодом Бобровым.
Но его заметно позабавило увиденное на льду, а это верный признак того, что Национальная хоккейная лига медленно усваивала уроки, преподанные Советами в плане физической подготовки, техники и дисциплины. «Эти игроки были бы полностью истощены после 15 минут тренировки с моей командой», — сказал Большой Медведь, который до сих пор работает тренером московского ЦСКА. Этим вечером (статья вышла в свет 22 сентября – прим. автора) против сборной Канады сыграют двенадцать его игроков, в том числе вратарь Владислав Третьяк, пять защитников и лучшие на данный момент нападающие России в серии - Валерий Харламов, Борис Михайлов и Владимир Петров.
Тарасов ясно дал понять, что, если бы он был по-прежнему главным, Анатолий Фирсов увеличил бы представительство ЦСКА до 13. Фирсов вызывающе отсутствовал в возглавляемой Бобровым команде, которая через месяц финишировала второй на чемпионате мира в Праге. «Каждый руководитель должен принимать собственные решения, потому что он несет ответственность, — максимально дипломатично сказал Тарасов. - И общеизвестно, что в России много отличных молодых игроков, готовых к международным соревнованиям».
Кто смеется последним?
Эмоции Тарасова колебались между восторгом и негодованием с того рокового вечера 2 сентября, когда советские «стрижи» - а большинство из них, напомним, были его собственными игроками, подготовленными им для этой задачи - переиграли лучших из НХЛ до такой степени, что это было ничем иным, как шоком для всех.
Почти все теории Тарасова абсолютно подтвердились в том историческом матче и в последующих. Он всегда проповедовал, что скорость, пасы и отточенная коллективная работа являются настоящими ключами к успеху в хоккее. И теперь они таковыми являются. Он никогда не говорил, что профессиональная игра с ее упором на индивидуальную импровизацию хуже. На самом деле, он всегда относился к НХЛ как скромный студент, ищущий знаний, и он действительно не шутил. Вот почему он всегда делал заметки.
Тем не менее, легко представить, какое огромное удовлетворение он должен испытывать в эти дни, когда советская хоккейная школа, которая была в основном его собственным изобретением, наконец, победила своего последнего оставшегося на пути соперника или, по крайней мере, утвердилась с ним на равных.
Нетрудно догадаться, насколько он, должно быть, разочарован тем, что оказался в роли аутсайдера в тот момент хоккейной истории, для достижения которого он так много сделал.
Одним из первых шагов, которые московские журналисты осуществили после ошеломляющей победы 7:3 на Монреальском форуме, были телефонные звонки Большому Медведю домой. С нехарактерной для него сдержанностью он отказался от комментариев. «Мои мысли о хоккее опубликованы во многих книгах, — сказал он, — и они не изменились».
Тарасов предсказал, что его ребята будут готовы обыграть игроков высшей лиги, если они будут в достаточно хорошей форме, чтобы поддерживать быстрый темп в течение 60 минут. И он лично способствовал этому, так как его армейцы начали усиленные тренировки в июле якобы в рамках подготовки к полуфиналу Кубка европейских чемпионов против восточногерманской команды. Некоторые скептики не без оснований предположили, что 7 августа было странной датой открытия хоккейного сезона первым матчем плей-офф этого Кубка. Русские вежливо заявили, что в этом нет ничего необычного, хотя ответный матч состоится не раньше ноября. Таким образом, Советы нарушили часть своего соглашения с командой Канады, согласно которому ни одна из сторон не будет тренироваться до 13 августа. Канадцы не жаловались, потому что чувствовали, что игроков, которые катаются на коньках в хоккейной школе все лето, тоже можно обвинить в вероломстве.
Бобров получил кредит
Таким образом, Тарасов внес свой последний вклад в триумф, который сейчас широко приписывается Боброву. Большой Медведь привел ключевых игроков в состояние, которое, как он знал, было необходимо, и он был в значительной степени ответственен ещё за одно важное улучшение, которое переломило ситуацию, — неожиданное превращение молодого Третьяка в первоклассного вратаря.
Трое джентльменов в Канаде, Джек МакЛеод, преподобный Дэвид Бауэр и Билл Харрис, наверняка знали, что чувствует Тарасов. Ни у одного канадца нет такого большого опыта в европейском хоккее, как у них, но сборная Канады высокомерно отказалась прислушиваться к их советам. И вот, когда, наконец, произошла драматическая схватка, они, как и Тарасов, наблюдали в сторонке и, возможно, видели какие-то грубые ошибки, от которых заранее предостерегали.
Тарасов ушел с катка до того, как Бобров вывел на лёд для занятий свою бригаду. Возможно, это было как раз кстати. Новый тренер провёл расслабленную тренировку, более похожую на то, что сделал бы клуб НХЛ, нежели на одну из садистских сессий Тарасова. А Бобров демонстрировал поощрение индивидуалистических наклонностей и навыков у своих игроков.
Другими словами, Русские поддаются влиянию высшей профессиональной лиги, что действительно является полной иронией, не правда ли?
Можно ли винить Тарасова в уходе?
Аллегорический образ записной книжки (блокнота) Тарасова, который использовал Дж.Праудфут, ярко подчеркнул две вещи. Первое: многолетняя учёба Тарасова у НХЛ триумфально завершилась в момент сокрушительного поражения Team Canada 2 сентября 1972 г. в Монреале. Второе: новое руководство хоккейной команды СССР считает определяющим вектором её развития индивидуализм спортсменов.
Однако, Тарасов был и оставался великим педагогом и хоккейным гуру прежде всего потому, что никогда сам не переставал учиться. У педагогов, у коллег, у своих воспитанников («Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!»), у друзей. И он, всё же, на той самой канадской тренировке извлёк из заднего кармана маленький блокнотик, в котором своим НИКОМУ непонятным кружевным почерком сделал несколько заметок! Для чего? Мы поймём это после завершения московской части и всей серии игр.


Первый матч московской части Суперсерии (SS) значил очень многое для обеих команд. Решительно настроенных наверстывать упущенное канадцев не смутила череда спортивных и бытовых неудобств советской столицы. Они, оставаясь подлинными профессионалами, служащими хоккею, шли к своей цели неуклонно – им была нужна только победа, и они собирались её добывать, выигрывая каждый матч. В их психологии понятие «чужого поля» просто отсутствовало. Кроме того, осознав с каким серьёзным соперником свела их судьба, они испытывали жгучее и искреннее чувство долга перед канадскими болельщиками, огорченными на родной земле небывалым поражением. Недаром Фил Эспозито в своём агрессивно-раздосадованном интервью бросал улюлюкающим после 4-ой игры болельщиками встречный упрёк: команда из всех возможных сил бьётся за честь страны, что заслуживает и требует понимания! Этот цитируемый (в видеозаписи) более 50 лет монолог прозвучал как непреклонный манифест будущей победы Канады в суперсерии. К тому же «шведская прослойка игр» дала канадцам несомненное прибавление физической выносливости и двигательного заряда: достаточно было наблюдать неутомимые «крейсерские» рейды (с шайбой и без) Ф.Эспозито, Ф.Маховлича, Б.Кларка по всей длине площадки, от начала и до самого конца матча. У канадцев появились «ноги».
Результат 1-го московского матча известен – победа сборной СССР 5:4. Но всё же большую часть матча, до 49-ой минуты, Канада уверенно лидировала с перевесом в 3 шайбы! Игра была равной, и по числу и остроте стремительных атак, и по надёжной игре вратарей, и по предельной отдаче игроков. Канадцев сломила не физическая усталость, как это было во всех (даже победном) матчах за океаном. На мгновение их подвел мираж почудившейся раньше времени победы. Это не была самоуспокоенность и, тем более, надменность – соперник уже не мог восприниматься как не равный! Тогда на 5,5 минут на льду воцарилась хоккейная стихия, которая в любой момент грозит лишить превосходства всякую команду (или спортсмена). Сборная СССР забросила 4 шайбы подряд, хотя не был заметен какой-либо натиск с её стороны – обе команды попеременно атаковали. Но лишь наши спортсмены при этом забивали голы!
Именно по итогам этой встречи мы считаем необходимым обозначить одну из важных причин поражения сборной СССР в серии. Она касается вопроса комплектования состава команды. И здесь вначале необходимо сделать ссылку на аналитические заметки самого старшего тренера сборной СССР В.Боброва. Они были опубликованы в известном журнале «Спортивные игры» № 11 (ноябрь) 1972 года под заголовком «Семь ответов Боброва» (подразумевая ответы Всеволода Михайловича на вопросы читателей). Нельзя не начать с дебютного вопроса и ответа на него.
Вопрос: Как вы оцениваете спортивные результаты встреч сборной СССР с лучшими канадскими профессиональными хоккеистами?
Ответ: Статистические записи матчей советских хоккеистов с профессионалами Канады показывают игровой перевес нашей сборной.
Данный ответ старшего тренера команды иначе как лукавством (или самообманом?) назвать нельзя. Его команда потерпела очевидное спортивное поражение (хотя была в шаге от победы), и ссылки на статистические выкладки и эфемерное понятие «игровой перевес» показывают отсутствие воли тренера признать личное поражение. Анализировать последующие рассуждения Боброва по теме «Суперсерия СССР – Канада 1972» мы предлагаем читателям (кому это будет интересно) самостоятельно, делая ссылку на уважаемый Форум хоккейных статистиков имени Виктора Малеванного (https://ice-hockey-stat.com/vi...).
Обратимся лишь к одному разделу этого интервью – оценке соотношения сил звеньев нашей сборной, где Бобров прибегает к тем же (как показала проверка, далеко не достоверным) «статистическим записям». «Звено Мальцева сыграло неудачно: 2:1, 0:2, 1:1, 1:2, 2:3, 0:1, 0:2, 1:4, общий итог в своих микроматчах 7:16». Это безусловный факт, который следует принять как данность. Но почему это звено, упорно проигрывая свои отрезки матч за матчем, так и не изменило своей игры, не внесло коррективы в свои действия, уже вопрос к старшему тренеру? В трёх из восьми матчей состав этого звена нападающих менялся: дважды вынужденно (травмы партнёров) и единожды сознательно по решению тренера (мы касались этого вопроса, описывая фиаско Старшинова во второй встрече в Торонто).
Проблема неудачной, просто провальной игры первой тройки нападающих сборной СССР в этой серии матчей кроется в самом факте возникновения этого звена. Именно в таком составе (Викулов – Мальцев – Харламов) звено с самого начала было обречено на неэффективную игру, уже потому, что в нём не было ни одного центрфорварда, опоры, стержня игровых действий как в атаке, так и в обороне. К примеру, даже в победном пятом матче (Москва, 22 сентября) Мальцев постоянно проигрывал своему канадскому визави Кларку и в силе, и в тактической ориентировке, особенно в оборонительной фазе игровых действий. Просто потому, что не имел никогда подобного навыка и исполнял иные функции быстрого крайнего форварда как в «Динамо», так и в сборной СССР при Чернышеве с Тарасовым.
Но надо отдать должное мужеству А.Мальцева, который своими действиями внёс перелом в единственно победном московском матче. Уже пропустив от звена Кларка 3 шайбы наша первая тройка при счёте 3:4 в одном из эпизодов навязала сопернику борьбу в чужой зоне и затеяла позиционный розыгрыш шайбы через защитников. Мальцев, бесстрашно отвоёвывая место на пятачке у канадских ворот, в момент дальнего щелчка Гусева на мгновение загородил Тони Эспозито обзор, и шайба влетела в ворота «ослепшего» вратаря – 4:4. В следующем эпизоде Мальцев решительно и упорно боролся с Кларком в момент его выхода из зоны, и вынудил канадца потерять шайбу. Только поэтому она попала к ловкому и быстрому Викулову, который и забил победный гол.
Незавидной была участь и партнёров Мальцева – Владимира Викулова и Валерия Харламова. И дело не только в том, что три «крылатых» фланговых форварда тщетно пытались создать стабильное взаимодействие. Видно было, что тренер не сформулировал концептуальной роли для этого звена в сценарии командных действий! Именно поэтому Харламов блеснул лишь несколькими ошеломляющими голевыми прорывами, но постоянной угрозы для канадцев от матча к матчу представлял всё меньше и меньше (правда, здесь немалую роль сыграла травма игрока, в т.ч. и психологическая). Роль Викулова в этом сочетании была просто печальной. Он, даже без тренерской подсказки, старался эпизодически помогать Мальцеву в его неравной борьбе с центрфорвардами-оппонентами, хотя сам в этом являлся не лучшим специалистом. Такие не предусмотренные привычной игровой практикой усилия отнимали у игрока энергию и время, отвлекая его от полной сосредоточенности на атаке. Вернитесь, читатель, к приснопамятному пасквилю Сыча, где он (Глава 17) порочит и Викулова, и вы многое поймёте.
Здесь можно было долго и убедительно напоминать, и рассуждать о бесспорном превосходстве сочетания Викулов – Фирсов - Харламов над всеми звеньями нападения в сборной СССР до смены тренерского руководства. Говорить о смелом тактическом новшестве – образовании функциональной единицы хоккейного полузащитника. Но звено такого масштаба и потенциала, превратило бы нового тренера в работе с ним в заурядного статиста (чему может «тренер-сюрприз» научить собранных в боевой кулак многократных чемпионов мира и Олимпиад?!). Поэтому рассуждения о судьбе первого звена в Суперсерии 1972 наводят иногда на мысль о сознательном стремлении старшего тренера ограничить мощь атакующего стиля нападающих ЦСКА в сборной команде. Мимолётным доказательством этой версии был момент в одной из восьми игр (в 5-ой или 6-ой?), когда на какой-то отрезок времени в одной тройке стали играть вместе Михайлов, Петров и Харламов. Тут же засверкало привычное и неудержимое взаимодействие игроков, ещё не виданное в этой серии матчей. Изменилась даже манера и быстрота движения хоккеистов. Голевые моменты в ходе лишь одной смены пошли непрерывной чередой, взятие ворот назревало неумолимо, но тренер внезапно вернулся к прежнему сочетанию игроков. Другим ярким примером фантастического взаимодействия этих хоккеистов был эталонный гол (3-я встреча в Виннипеге) убежавшего ото всех Валерия Харламова. Невероятный пас Михайлова на 2/3 площадки вывел его партнёра один на один с канадским вратарём (вернитесь к упоминанию об их дебюте из Главы 12 Олимпийский сезон 1968 г.). Иными словами, воссоздание тройки Михайлов – Петров – Харламов могло иметь переломное значение в последних трёх играх московской серии. Но штаб тренеров сборной СССР не понял (или не хотел принимать во внимание) фатального влияния нарастающего ослабления игры первой тройки нападения на исход всей серии этих матчей.
Кстати, о тренерском штабе сборной СССР. В московской серии игр, с первого же матча, на скамейке запасных за спиной Всеволода Боброва появился третий тренер. Нигде и никем официально не упомянутый Николай Карпов, не имевший три сезона подряд никакой тренерской практики.
Все помнят, какой подъём охватил как болельщиков, так и экспертов хоккея в СССР после победы над Канадой в 5-м матче. Не удивительно, требовалась ещё всего одна (в оставшихся трёх московских матчах!) победа для триумфального и сенсационного завершения исторической хоккейной серии встреч с родоначальниками хоккея. Вот тут-то сборную СССР и подстерегала небывалая проверка на состоятельность и зрелость отечественного хоккея. Без преувеличения можно сказать, что наступил самый важный момент в его 25-летней истории. Мы не знаем, говорили ли тренеры с игроками нашей команды в таком, историческом контексте о решающей важности оставшихся игр. Да и живых свидетелей этого сегодня уже наперечёт. Но у авторов этих воспоминаний нет сомнений, что А.Тарасов и А.Чернышев для мотивации игроков на победу использовали бы именно такой довод. Поскольку необходимая и столь желанная победа становилась венцом их совместного 10-летнего труда и победного пути. Не говоря уже о такой славной вехе в истории всего советского хоккея.
Нельзя не коснуться здесь и атмосферы в стане противника перед решающей фазой этого соревнования. Во-первых, сразу после поражения (4:5) тренеры Team Canada наотрез отказались от участия в пресс-конференции, проявив, тем самым неуважение к трём сотням представителей международной журналистики. Затем кулуарно Г.Синден всё-таки отдельно встретился с работниками канадских медиа. Ставшее почти роковым поражение от сборной СССР, казалось, могло посеять смятение в лагере сборной Канады. Тем более, что трое её хоккеистов, недовольные долгим (начиная ещё с Канады) пребыванием на «скамье запасных» (их просто не заявляли на игры), сообщили о своём немедленном отъезде на родину. Однако, по всем признакам, и, прежде всего, по мнению самих канадцев (игроков и тренеров), большая часть первой встречи была их лучшей игрой в текущей серии. И они собирались только наращивать мощь своей игры. «Мы сами позволили им сорваться с крючка», говорил Гарри Бергман. «Мы ничуть не истощились, а просто решили отсидеться, добившись большого превосходства. А это фатально в игре с русскими». Г.Синден с этим всё же не соглашался, и считал, что атлетическое превосходство русских стало в третьем периоде 5-го матча решающим. Был ли он в этом искренним, фактически повторяя сказанное на брифинге В.Бобровым? Или же только пытался создать у соперников впечатление о слабости своей команды?
Итак, шестая встреча СССР – Канада становилась определяющей, и могла даже стать решающей для всей Суперсерии. Сколько объективных преимуществ было у советской команды: родные трибуны, непривычно просторная для канадцев игровая площадка и её ограждение, континентальные судьи с более европейской трактовкой правил, так раздражавшей канадцев, и только что упомянутый больший запас физической выносливости русских. Лишь одного не доставало нашим спортсменам, точнее, тренерам, в чём они уступали матёрым канадским профессионалам – значительного опыта решающих матчей, в которых бесповоротно определяется победитель. Навыка того формата соревнований (как, например, Кубок Стенли), где серия встреч между командами до четырёх побед определяет более сильную команду. Минимизируя фактор случайности, столь высокий в единственной для соперников встрече. Вовсе не случайно формат Суперсерии из 8 матчей так охотно был принят и одобрен канадской стороной при первоначальных переговорах.
Канадцам нужна была только победа в этой очередной встрече, и подошли они к такой необходимости в далеко не обнадёживающих обстоятельствах. Советская команда, располагая большой форой (+ две победы!), похоже, могла себе позволить осторожно-выжидательную тактику игровых действий в таком матче. В зависимости от командной тактики соперника вести приспособительную игру. Была ли наша команда, и насколько, готова к выбору единственно правильной стратегии действий в данных обстоятельствах?
Наш ответ будет двойственным, но точным: коллектив игроков «да», тренерский штаб «нет»!
Мы в предыдущих главах не обсуждали подробности побед нашей команды на чемпионатах мира и Олимпиадах – всего 10 таких турниров подряд. Но касались проблемы однокруговых турниров в системе МФХЛ (Международная Федерация Хоккея на Льду), где победа в любом матче между фаворитами турнира могла стать решающей, а поражение невосполнимым. Именно под руководством А.Чернышева и А.Тарасова сборная СССР накопила огромный опыт таких решающих победных матчей. Будет вполне уместно напомнить о них современным поклонникам хоккея. Практически каждый мировой турнир являл нам пример такого решающего матча, который сборной СССР нельзя было проиграть, а необходимо было только выиграть.
В дебютном победном для тренерского тандема чемпионате мира 1963 года новая сборная СССР в последнем седьмом матче турнира победила канадскую команду с обязательной для чемпионского титула разницей в две шайбы – 4:2. И благодаря этому завоевала первое место.
В последнем матче финального раунда олимпийского турнира по хоккею 1964 года советская команда в тяжелейшей борьбе победила первую в истории сборную команду Канады 3:2, и вырвала у соперника олимпийское золото.
В чемпионате мира 1965 года судьба золота определялась в предпоследней встрече команд СССР и Чехословакии. Наши соперники были лучше всех на турнире подготовлены физически, превосходя оппонентов в скоростном маневре, силовом давлении и жажде победы. Сборная СССР, заведомо в этом уступая, сумела принудить команду ЧССР к вязкой, сковывающей игре на протяжении всего матча. В изнуряющем противостоянии советская команда победила 3:1.
Победителя чемпионата мира в 1966 году должен был выявить последний матч команд СССР и Чехословакии. Нашим хоккеистам требовалась только победа. Решительно выполняя силовое давление, и обрушив на растерявшегося соперника шквал атак, советская команда уже к 25 минуте той встречи лидировала в счёте 6:0! Так была завоёвана очередная победа.
На чемпионате мира 1967 года звание победителей сборная СССР завоёвывала в труднейшем матче против сборной Канады. Мы описывали важные детали этой встречи в предыдущих главах (11). Победа нашей команды, хоть и с минимальным счётом, была безоговорочной.
Олимпийский хоккейный турнир в Гренобле (1968 год) был отмечен первым за 5 лет поражением (4:5 от Чехословакии) сборной СССР в мировых форумах, что поставило её на грань потери чемпионского титула. Последний, снова решающий хоккейный матч той Олимпиады команда Советского Союза выиграла у Канады с сухим счётом 5:0.
В 1969 году наступил период двухкругового формата матчей чемпионатов мира по хоккею – команды встречались друг с другом дважды. Это заметно снизило фатальное влияние поражения в единственном матче на конечный результат турнира. Но не гарантировало возникновения обстоятельств решающей встречи за чемпионский титул, которую нельзя проиграть. Так, например, в чемпионате 1970 г., последний матч турнира между Швецией и СССР, позволял скандинавам довольствоваться ничьей для завоевания чемпионского титула. Сборная СССР в единственной решающей встрече снова победила в упорной борьбе 3:1. А в следующем сезоне нашей команде для победы в мировом первенстве нужна была только победа над Швецией в заключительном матче. Проигрывая перед третьим периодом 2:3, наши хоккеисты истерзали шведов ураганными атаками, забив четыре (4) безответных шайбы.
Этот перечень побед красноречиво свидетельствует об огромном опыте тренеров сборной СССР Чернышева и Тарасова и их игроков в достижении требуемого результата, несмотря обстоятельства любой степени сложности.
В сентябрьской Москве 1972 года со сборной СССР произошло то, чего ранее за все годы её существования никогда не бывало. Она умудрилась проиграть одному сопернику три (3) матча подряд! Три решающих матча, победа в любом из которых обеспечивала суммарную победу во всём соревновании.
Постараемся сами себе ответить на один вопрос, мы в состоянии это сделать. Что, наши хоккеисты как-то изменились за истекшие три недели после завершения канадского этапа соревнования? Они, вдруг, стали играть хуже в родных стенах, на своём привычном стадионе? Может быть их охватила внезапная усталость, обычно проявляющаяся в самом конце нашего хоккейного сезона?
Нет, нет и нет!
Просто Team Canada на решающем этапе борьбы предстала в совершенно ином состоянии как монолитный, отважный и страстный коллектив патриотически ориентированных профессионалов. Для достижения требуемого результата она пустила в ход все возможные спортивные, политические, психологические и даже агрессивно-силовые ресурсы. И этой своей решительной собранностью застала руководство нашей команды врасплох.
Снова читаем «Семь ответов» Боброва. «… в Москве мы выиграли только один матч, а канадцы – три. Чем это объяснить? Прежде всего – неспортивным поведением канадских звёзд». И это говорит, обращаясь к нашей спортивной общественности заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, старший тренер команды, выигравшей до него 9 чемпионатов мира и 3 Олимпийских турнира?
Советской команде, ежегодно проводившей в Канаде почти 10 лет кряду целые серии товарищеских матчей, были привычны агрессивный стиль игры, а, нередко, и устрашающие выходки канадских хоккеистов. Практически в каждом матче за океаном нашим спортсменам приходилось давать отпор действиям соперника с умышленными нападками (атаками) на грани и, чаще, за гранью фола. Поскольку играть сборной СССР приходилось с несколькими разными соперниками (клубными и сборными), ситуация напоминала «пятый угол». Пользуясь военными терминами, можно сказать, что один взвод противостоял целой роте, которая использовала свои разные взводы, поочередно направляя их на борьбу со взводом-одиночкой. Такое положение, несмотря на фундаментальную концепцию «непротивления злу», никак не могло устраивать советских тренеров. Хоккей, как самая контактная игра, всегда допускает определённую долю травматизма, временно выводящего из строя игроков. Но вышеуказанные условия заведомого неравенства силового ресурса в турне сборной СССР по Канаде никак не устраивали наших тренеров. Борьбу с преднамеренной агрессивностью канадцев наши тренеры поставили на системную основу. Она предполагала не только достойные способы противостояния (выработку у игроков должных навыков в единоборствах) силовым нападкам канадцев, но и меры «профилактики» в отношении особо задиристых персон. В ходе тренировочных занятий Тарасов ставил нападающих в условия численного неравенства (1 против 3-их) в борьбе, в том числе силовой, против обороняющихся. Прибегая для этого к помощи игроков юношеских команд. Это повышало не только технические, но и индивидуальные тактические навыки игроков, улучшало их ориентацию в стеснённом пространстве силовой борьбы. Защитникам (не только им, конечно!) следовало развивать способность контролировать дистанцию с нападающим соперника, дабы внезапно осуществить против него силовую атаку всей массой корпуса, делая это в самый неподходящий (замедление движения, приём шайбы и сосредоточенность на ней, поиск адресата получения шайбы) для противника момент. В отношении особо драчливых канадцев допускались скрытые недозволенные удары локтем и даже древком клюшки. Если с каким-либо задиристым персонажем предстояла очередная встреча, он становился объектом беспощадного силового преследования с самого начала игры. Ещё не успев оказать вредное воздействие на нашего игрока. Такой подход угнетал соперника психологически, сковывал инициативу, отбивал охоту продолжать грязную игру.
Для решения таких боевых задач в сборной СССР был целый отряд достойных исполнителей. В 60-е годы защитники Э.Иванов и В.Давыдов считались непревзойдёнными мастерами опрокидывания на лёд движущегося с шайбой соперника. Подкатываясь резко и внезапно, и производя удар (толчок бедром) в область туловища ниже центра тяжести, наши игроки сбивали соперника так, что он вынужденно делал кульбит в воздухе и обрушивался на лёд. Одного такого падения хватало до конца матча, чтобы понять наказуемость агрессии. Рост и мощь А.П.Рагулина использовалась в силовом усмирении канадцев по-иному. «Центнер живого веса», как величал его в таких обстоятельствах Тарасов, был страшен у бортов, когда всей своей массой, словно бетонная плита с размаху припечатывал соперника к лицевому борту в своей зоне. Рагулин просил партнёров заманивать атакующих канадцев к лицевому борту за ворота. Вот там он настигал их своей массой, превращая в отбивную котлету. Однажды на ледовой арене в Колорадо-Спрингс (В.Александров – личное сообщение, 1971), выполняя силовой приём, как акт возмездия, он снёс и опрокинул на пол целый сектор лицевого борта с ограждением и соперником, наподоби е бутербродной «начинки». Исход – перелом у соперника нескольких рёбер и 20-минутная остановка игры для ремонта ограждения хоккейного поля.). Нам не удалось найти в доступных архивах газет Колорадо-Спрингс 1964-1967 гг., освещавших все турниры Мемориала У.Брауна, упоминание такого события. Но не верить участнику каждого из этих соревнований нет никаких оснований – выдумать такую историю просто невозможно.
Из нового поколения игроков начала 70-х достойной сменой Рагулину (Александр Павлович утратил былую подвижность и теперь выполнял функцию опорного стоппера, охраняющего пятачок) и Давыдову должны были стать Г.Цыганков и В.Васильев. Оба не имели опыта встреч с канадцами, за океаном перед СС 1972 не выступали (исключение - игры Цыганкова за ЦСКА в турне по США), но жесткий силовой хоккей любили, и в Европе практиковали. Тарасов превыше всего ценил в Цыганкове его невероятную «живучесть в единоборствах». Геннадий как никто, ведя борьбу с соперником один на один, не прекращал борьбу, пока стоял на коньках. А поверженным он оказывался крайне редко (менее 20% случаев, данные А.В.Тарасова). Эпизод его схватки с Б.Кларком (Глава 20) лишнее тому доказательство. Для канадцев стиль игры Цыганкова оказался обескураживающим. Они не представляли, что иностранный хоккеист может бороться один на один столь неустанно. Особенно у бортов, где формируемый с детства приоритет силы (сначала оттолкни/свали соперника, потом занимайся шайбой) для канадца был главным. Валерий Васильев всегда подкупал Тарасова своим инициативным желанием бросить любому игроку силовой вызов. Он часто перед игрой, в момент предматчевой разминки подъезжал к наблюдавшему за соперником Тарасову с единственным вопросом: «Которого?» Получив от тренера в ответ номер игрока, Васильев на протяжении всей игры «отравлял ему жизнь» ни разу не выходя за рамки правил (А.В.Тарасов – личное сообщение, 1988 г.). В отличие от Цыганкова манера действий Васильева носила завуалированный, но такой же непреклонный характер. Валерий, обладая пружинистым коньковым ходом, любое ускорения выполнял незаметно, и оказывался рядом с соперником всегда внезапно. Не секрет, что и Васильев, и Цыганков провели московские матчи с немалым числом серьёзных ошибок. Но их редкие силовые достоинства, весьма пригодные для ответного или профилактического усмирения, к сожалению, не были использованы тренерами, особенно на последнем, московском этапе серии. Тогда, когда Канада, ощутив приближение фиаско (после поражения в 5-м матче), начала использовать безжалостные силовые, а также психологические методы давления, требовавшие обязательного и не менее жесткого отпора. Бобров и Кулагин, а уж тем более Карпов, никогда в тренерской практике не сталкивались с необходимостью готовить свои команды к «ледовому побоищу». В сборной СССР 1972 года были квалифицированные в этом деле специалисты – наряду с названными выше, Гусев, Мишаков, даже Петров. Но тренеры не только не дали подопечным права защищать своё профессиональное и человеческое достоинство – подобные стратегические задачи обсуждаются на предматчевых установках. Бобров и Ко. неожиданно проявили недопустимую на скамейке запасных растерянность, которую могли наблюдать и соперник, и зрители. Стало очевидно, что тренеры неуверенно держат в руках нити управления командой. А игроки это чувствуют лучше, чем кто-либо! Никогда и ни при каких обстоятельствах, а тем более в родных стенах, их предшественники не допустили бы столь откровенную и безнаказанную охоту на Харламова, затеянную канадцами с 5-го матча серии. Сознательный травмирующий удар Кларка повлёк бы безотлагательное физическое возмездие, находись у скамейки игроков А.Тарасов.
Анатолий Владимирович придавал этому неизбежному элементу настоящей спортивной борьбы большое значение. Но кодекс чести игры в рамках правил требовал соблюдать неукоснительно: «Сумей причинить сопернику боль, если он заслужил, но в рамках правил!» Однако и к рукопашным схваткам, затеваемым канадцами, готовил хоккеистов квалифицированно. Недаром он устраивал на тренировках «учебные семинары», приглашая наших именитых боксёров (Б.Н.Лагутин – личное сообщение, 1988 г.).

Поскольку В.Бобров назвал грубую игру канадцев главной причиной поражения сборной СССР в Москве, следует рассмотреть отношение самих канадцев к этому элементу игровой практики, исследовать их понимание грубости, как средства подавления соперника.
В канадском хоккее колющий удар наконечником (!) крюка клюшки называется spearing (спиаринг) – удар копьём (от слова spear – копьё). Его удаётся наносить сопернику часто незаметно (для судьи), исподтишка. Удар же, сам по себе, очень болезненный. Целевые места укола – слабозащищённые (тыльные) части ног: икроножная мышца, задняя сторона бедра, подколенная ямка. Особенно чувствителен удар в промежность (чаще древком, нередко в момент вбрасывания), несмотря на прочность защитной раковины. По утверждению главного тренера Team Canada Г.Синдена и бомбардира НХЛ Ф.Эспозито spearing в НХЛ недопустим. Игрок, позволивший себе такое, получает в Лиге пожизненную «чёрную метку» (18.09.1972). Канадцы утверждали, что в Стокгольме шведы часто провоцировали их таким приёмом на откровенно грубый ответ. Это приводило к необязательным удалениям канадцев, изматывающей игре в меньшинстве с понятными вытекающими последствиями Сам Эспозито, комментируя эту ситуацию сказал: «Я никогда не видел команду, так часто использующую уколы клюшкой. Русские – просто джентльмены в сравнении с этими шведскими парнями». Наблюдавшиеся нами вспышки ярости канадцев (Бергман, Паризе, Эспозито, Смит), звероподобное поведение Кларка в московских матчах могли быть отчасти следствием единичных уколов Михайлова, Мишакова (видеозаписи доступны всем) и, вероятно, кого-то ещё. Спустя десятилетия Эспозито пенял Михайлову на его коварные удары в паховую область, и Борис Петрович этого не отрицал.
Седьмой и восьмой матчи суперсерии, и, особенно, промежуток между ними были насыщены сверхактивными действиями хоккейных администраторов, дипломатов, политиков, бизнесменов с обеих сторон. Шли непримиримые споры о назначении судей на решающий, 8-ой матч, дискутабельным оставался вопрос о присуждении победы при равенстве набранных очков. Наконец, канадцы угрожали отказаться от завершающей встречи и покинуть Москву, лишив советскую соответствующей части финансового дохода, согласованного договором. Главными дирижерами этих сражений были хорошо знакомый нам канадец Алан Иглсон, и совсем незнакомый широкой публике Александр Гресько, заместитель начальника Управления международных связей Госкомспорта СССР. Их полные драматизма закулисные и публичные сражения, завершившиеся компромиссом, заслуживают отдельного и подробного описания и анализа.

Исход решающего поединка СССР – Канада на века запечатлён в анналах истории мирового хоккея. Именно с описания событий последней минуты того матча мы и начали наш долгий рассказ об истории советско-канадских хоккейных отношений. Третий период восьмого матча исторической серии сборная СССР всецело проиграла 0:3. Последний раз читаем «Семь ответов» В.Боброва.
«… три матча из четырёх, в которых СЧАСТЬЕ сопутствовало канадцам, они выиграли на маленьких отрезках времени.»
«… после восьми матчей наши хоккеисты сильно устали, а канадцы чем дальше, тем выглядели свежее. Они всё улучшали, наращивали форму. Чем это объяснить? Не могу сказать …»
Таково итоговое умозаключение старшего тренера сборной СССР по хоккею, руководившего коллективом выдающихся мастеров этой игры и работавшего с командой целых 6 месяцев. Действия нового тренерского штаба нашей команды в течение этого времени перечеркнули результаты 10-летнего титанического труда целого поколения советских хоккейных специалистов.


Алексею Игоревичу Тарасову, внуку Анатолия Владимировича, соавтору нашего исследования, удалось недавно отыскать в архиве те самые заметки великого тренера, которые он сделал 21 сентября 1972 г. Во Дворце спорта Лужников во время тренировки сборной команды Канады (НХЛ). С большим трудом (всем известен кружевной и неразборчивый почерк А.В.Тарасова) мы смогли расшифровать одну из последних фраз: «Канадцы готовы к победе».
«Вы сказали, что сметете нас со льда. Мы говорим, что хотели бы играть и учиться на будущее. Вам придётся исполнить свое хвастливое заявление. Мы же просто будем играть как можно лучше, учась у вас по ходу дела» А.Тарасов
Эти слова Анатолий Владимирович произнёс перед самым началом сентябрьской 1972 г. серии матчей СССР – Канада (см. Глава 19). Нашей команде без Тарасова не удалось сыграть «как можно лучше», и поэтому победа осталась за Канадой.

ЭПИЛОГ
Завершая избранный нами фрагмент (1954-1972) летописи советско-канадской хоккейной истории, мы вновь, как и в самом начале повествования, утверждаем: осенью 1972 года окончился начальный, но по сей день главный этап уже почти 70-летнего противостояния двух различных спортивных школ. Его венчало небывалое соревнование лучших хоккеистов обеих стран, в котором Канада, родоначальница хоккея, одержала победу. Хоккей с того момента начал меняться, и изменился навсегда. Это происходило постепенно. Советская хоккейная школа ещё какое-то время соперничала с канадской уже на равных. Но важнейшие, крупнейшие международные соревнования, где её представляли лучшие спортсмены, Канада выигрывала практически все. А первая четверть ХХI века демонстрирует нам, какого царственного владычества достигла североамериканская НХЛ (родившаяся в Канаде более 100 лет назад), сделав остальной международный хоккей своим вассалом и донором. Она добилась этого непоколебимо и беззастенчиво, и теперь убеждённо игнорирует все важнейшие международные соревнования, вплоть до Олимпийских игр.
Хоккей за прошедшие 50 лет изменился неузнаваемо по всем признакам – от физических кондиций и мастерства игроков, ставших предельно высокими, до сверхсложной инфраструктуры и логистики всего хоккейного хозяйства. Индустрии, где объединяющим всё мерилом являются миллиардные (доллары США) денежные обороты, делающие её создателей всё более богатыми, а главный продукт всё более дорогим товаром.
Мы настойчиво констатируем то спортивное поражение сборной СССР 50-летней давности вопреки успешной попытке советской пропаганды представить его как равенство сил, почти как победу. Ибо диапазон пропагандистских приёмов и уловок велик и всегда наготове. От вечно и беззастенчиво повторяемых (по сей день!) утверждений о «крушении мифа о непобедимости канадских профессионалов», до откровенно непрофессиональных тренерских сетований на грубость мастеров Национальной хоккейной лиги. Последний довод оставался единственным для старшего тренера Всеволода Боброва вплоть до окончания его недолгой (всего 2 года) тренерской карьеры в сборной команде СССР по хоккею.
Победный успех в Суперсерии 1972 г. пробудил у канадцев новый, гораздо больший интерес к советскому хоккею. К концу 1972 г. заметно оживилась межгосударственная программа спортивного обмена между СССР и Канадой (помните Коммюнике Косыгина – Трюдо 1971 г.?). Сначала в декабре в Канаду на турне отправилась хоккейная сборная Москвы (делегацию возглавляли А.Старовойтов и Б.Майоров). Весной в СССР была направлена группа из 6 канадских хоккейных специалистов для изучения организации у нас юношеского хоккея, научной базы развития и совершенствования тренерского мастерства.
Параллельно с этим советская сторона в качестве встречного шага предложила визит в Канаду тренеров сборной команды СССР В.Боброва и Б.Кулагина. Советские специалисты рассчитывали на проведение ими тренерских семинаров и лекций. В течение 3-х месяцев «Хоккей Канада» анонсировал и предлагал всем заинтересованным хоккейным организациям страны (спортивным факультетам университетов, региональным ассоциациям, клубам, хоккейным школам) выступления тренеров хоккейной команды СССР, чемпионов мира 1973 г. Для получения заявок в газетах даже указывался адрес (Hockey Canada, P.O.Box 1230, Toronto, Ont. M4T 2P4.) ответственного за программу визита Гэри Элдкорна (Gary Aldcorn). «Есть лектор», писали газеты.
Желающих не оказалось. Не помогло даже включение в состав делегации Валерия Харламова, как эталонного исполнителя тренировочных упражнений в ходе ожидаемых семинаров и занятий на льду. Трое советских специалистов прибыли в Канаду вскоре после завершения в Москве чемпионата мира по хоккею. Гостям было вежливо предложено посетить финал плэй-офф Мемориального Кубка (главный трофей юниорского чемпионата Канады) и последующий торжественный приём победителей. Гости также присутствовали на матче плэй-офф НХЛ «Монреаль» - «Чикаго» и имели встречу с Г.Синденом. Обсуждение возможности новых встреч с командами НХЛ (устраивавших советских тренеров в любом, клубном или сборном варианте) было неофициальным и имело исключительно дискуссионный характер. Визит завершился быстро. Так выяснилось, что НХЛ не спешит возобновлять встречи с командами СССР. Об итогах этой поездки в Канаду Бобров рассказал в обширном интервью газете «Вечерняя Москва» в июне месяце. (13.06.1973)
Только что рассказанная история о визите Боброва и Со. в Канаду в 1973 году снова и неотвратимо возвращает нас к переживающей времена теме 25-летнего (целая четверть века!) противостояния великих хоккейных индивидуумов – А,В.Тарасова и В.М.Боброва. (см. Главу 17). Возвращает потому, что именно Канада и соревнование с её хоккеем окончательно продемонстрировали к концу карьеры обоих, несопоставимость их тренерского масштаба. И мы попытаемся, наконец, завершить эту историю, тем более что оба персонажа закончили свою активную деятельность в большом хоккее в 1974 г.
Немного хронологии
После откровенного безразличия со стороны канадской хоккейной аудитории (чему может научить канадцев тренер-лузер с немноголетним стажем?) у Боброва был впереди год для подготовки к очередному «чемпионату Европы» 1974 г. Победа в том турнире (снова проходившем без североамериканцев) давалась намного труднее (разгром от ЧССР в первом туре 2:7), чем год назад. Очень раздражало тренеров в ходе чемпионата навязчивое внимание представителей руководства Спорткомитета СССР. Валентин Сыч, глава советской делегации в Хельсинки, бесцеремонно (особенно после поражения от команды ЧССР) вмешивался в дела команды по поводу и без повода. Как глава делегации, он к тому же участвовал в начавшихся на фоне чемпионата официальных переговорах с представителями «Хоккей Канада» и КЛХА. Канадцы предлагали нашей команде провести серию матчей со сборной Всемирной Хоккейной Ассоциации (ВХА), как раз на фоне временного, но твёрдого нежелания НХЛ соревноваться со сборной СССР. Сыч не допустил (и вполне резонно) к переговорам тренеров сборной СССР, чем сильно задел самолюбие Боброва. Видя, что диалог с канадцами прошёл успешно, старший тренер осознал неотвратимость новой серии встреч. Следовательно, он становился главным, кто должен обеспечить реванш за поражение от Канады в 1972 г. О чём В.Сыч объявил ему прилюдно там же в Хельсинки (О.Белаковский - личное сообщение, 2010). Можно понять, почему В.Бобров в конце и сразу после турнира, несмотря на трудную победу в чемпионате, пошёл на конфликт с Сычом, и допустил ряд дерзких (с точки зрения начальственных представлений) высказываний, заявлений и действий в адрес руководства.
Через месяц в Москве состоялись советско-канадские переговоры о хоккейной серии матчей ВХА – СССР. Солидную делегацию из Канады представляли Лу Лефэйв (Lou Lefaive), фактически Министр спорта страны, Билл Хантер (Bill Hunter), генеральный менеджер команды Канады-74 и исполнительный секретарь КЛХА Гордон Джакс (Gordon Juckes). С советской стороны – официальные представители Спорткомитета СССР Валентин Сыч, начальник Управления спортивных игр и зимних видов спорта, и Александр Гресько, начальник Управления международных связей. Канадцы очень высоко оценили переговорный уровень и компетентность советской стороны, «целеустремлённость и уверенность русских в своей победе» (22.05.1974). Через 10 дней в Торонто, в ходе ответной встречи договаривающихся сторон, было подписано соглашение и утверждено расписание встреч (всего 8), стартующих в Канаде.17 сентября. Схема соревнования практически копировала тот формат, что был использован в сентябре 1972 г., когда с советской командой соперничала Team Canada-72.
Советская информационно-пропагандистская машина всегда предельно скупо, подчёркнуто бездушно извещала общественность о неожиданных кадровых изменениях в руководящих эшелонах отечественного спорта. Избегая обнародования подлинных причин происходившего. Так было с А.Чернышевым и А.Тарасовым в 1972 г. после победы в Саппоро. Та же участь постигла и В.Боброва в июне 1974 г. после победы сборной СССР в чемпионате мира. Сборная СССР начала летний сбор 1 июля с прицелом на матчи с ВХА, и открыл его один Б.Кулагин. Официальное сообщение о «переходе на другую работу» старшего тренера В.Боброва последовало позже (АПН СССР, 15 июля 1974 г.)
Хоккейное межсезонье 1974 г. в нашей стране не было триумфальным и для Анатолия Тарасова. Армейский клуб в чемпионате СССР вынужден был довольствоваться «серебром». Старший тренер уходил в отставку, обусловленную на тот момент во многом состоянием его здоровья. Тренерами хоккейного клуба ЦСКА становились его ученики – Константин Локтев, Вениамин Александров и Анатолий Фирсов. Но за океаном имя Тарасова в летние месяцы зазвучало с новой силой. Он был номинирован в Зал Хоккейной Славы Канады.
Зал Хоккейной Славы (ЗХС) является национальным музеем Канады. Он посвящен истории хоккея с шайбой, содержит экспонаты и сведения об игроках, командах, рекордах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), памятные предметы и трофеи НХЛ, включая Кубок Стэнли. Существует с 1945 г., когда в него были включены первые исторические фигуры этой игры.
Избрание в ЗХС проводится по трём категориям: игрок, созидатель (строитель), судья. К созидателям относятся тренеры, менеджеры и администраторы – деятели, исполняющие важную роль «вне льда». В каждой из категорий пригодными к избранию в 60-70-х годах могли быть только лица, закончившие активную деятельность не менее чем 3 года назад. Уже летом 1972 года в канадской прессе обсуждался вопрос о номинации А.Тарасова в ЗХС (22.06.1972), хотя его активная карьера была ещё не закончена (оставив сборную СССР, он продолжал тренировать ЦСКА). К тому моменту в строгих правилах избрания в ЗХЛ стали возникать «исключения». Великие игроки НХЛ М.Ришар, Р.Келли, Г.Хоу и Ж.Беливо были, вопреки правилам, избраны сразу же после окончания карьеры.
Только члены Отборочной комиссии Зала Хоккейной Славы могут официально выдвигать кандидатов для избрания в Почетные члены (такие кандидатуры рассматриваются на Ежегодном избирательном собрании Отборочной комиссии). Выдвижение кандидатов производится ежегодно в письменной форме и должно быть подано Председателю Отборочной комиссии не позднее полуночи (по времени Торонто) 15 апреля каждого года. Выдвижение кандидатуры действительно и сохраняет силу только в течение ежегодных выборов в том календарном году, когда оно было подано. Анатолия Тарасова в ЗХС выдвинул Милт Даннелл (Milt Dunnell) (15.09.1972), один из 11 членов Отборочной комиссии (ОК). Эта номинация была беспрецедентной по ряду признаков. Тарасов был первым несевероамериканцем: единственное исключение – бельгиец Поль Луа (Paul Loicq), бывший Президент МФХЛ (1927-1947), избранный в ЗХС посмертно в 1961 г. Тарасов был первым тренером в истории ЗХС, и ОК срочно выдвинула для одновременного избрания Тома Айвена (Thomas Ivan), тренера «Детройт Ред Уингс» 40-50-х с тремя Кубками Стенли в его активе. Наконец, Тарасов стал очередным «исключением», так как завершил карьеру перед самым моментом выдвижения (см. выше). Одним из претендентов в номинации Созидатель был в тот год и многолетний Президент МФХЛ Джон Ахерн. Но, не набрав требуемого числа голосов, он был отвергнут ОК и не попал в ЗХС в 1974 г.
Президент НХЛ, председатель Комитета управления ЗХС Кларенс Кэмпбелл (Clarence Campbell) 30 июля 1974 г. объявил об избрании Анатолия Тарасова Почетным Членом Зала Хоккейной Славы Канады (31.07.1974). «Комитет управления прилагает все усилия, чтобы обеспечить участие г-на Тарасова в церемонии награждения, наряду с семью (7) другими почетными избранными», - подчеркнул К.Кэмпбелл в официальном пресс-релизе. Церемония награждения была назначена на 22 августа 1974 г.
Торжественное объявление о присуждении А.Тарасову почетного звания было поручено тренеру новоиспечённого обладателя Кубка Стенли «Филадельфия Флайерс» Фреду Шеро (Fred Shero). «Представлял» Тарасова на церемонии награждения некто майор Станислав Игнатов, зам. военного атташе Посольства СССР в Оттаве. Официальная версия, объяснявшая отсутствие Тарасова на церемонии, содержала утверждение об ухудшении на тот момент состояния здоровья советского тренера. Но в осведомлённых кругах было известно, что полковник А.Тарасов был на тот момент не выездным в капиталистические страны. Даже попытки посла Советского Союза в Канаде, члена ЦК КПСС А.Н.Яковлева, находившегося в тот момент в отпуске в Москве, поручиться за советского тренера не принесли успеха (17.08.1974).
Только спустя 15 лет вторым представителем советской школы хоккея в ЗХС стал великий вратарь Владислав Третьяк, ученик А.Тарасова.
На этом факте, в рамках описания многолетней истории советско-канадских хоккейных отношений, мы считаем необходимым поставить точку в нашем долгом рассказе о противостоянии двух великих деятелей советского хоккея В.Боброва и А.Тарасова. Но полноценно завершить этот рассказ, без использования одной важной литературной ссылки, нельзя.
«… 3 июля 1975 года на московском стадионе «Динамо» состоялся четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка СССР между ЦСКА и алма-атинским «Кайратом». Рядовой, казалось бы, во всех отношениях матч. Но он, тем не менее, вызвал огромный интерес зрителей – на трибунах собрались 15 тысяч болельщиков. Объяснение простое: ЦСКА тогда тренировал Тарасов, «Кайрат» - Бобров, освобожденный год назад от руководства сборной СССР по хоккею.
Кубковая футбольная игра оказалась последней, в которой противостояли друг другу давние соперники. В подобных встречах, несмотря на то, что команды представляют разные лиги, шансы расцениваются как равные. «Кайрат» равную игру предложить не сумел. ЦСКА крупно выиграл, не встретив даже мало-мальски серьёзного сопротивления.
«Более подавленным, чем после этого матча – вспоминал друг Всеволода Михайловича журналист Владимир Пахомов, - я Боброва никогда не видел». (Александр Горбунов. «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ», ЖЗЛ; Молодая гвардия, 2015)
Итак, мы возвращаемся к тому моменту, когда «Хоккей Канада» совместно с КЛХА предложили нашему спортивному и хоккейному руководству соревнование со сборной ВХА. Эта лига на втором году своего существования горела желанием не отстать от главного, смертельно опасного конкурента, НХЛ. Несмотря на не такой высокий, как в НХЛ, уровень игры команд ВХА, советской пропагандой новая серия матчей (снова 8) была представлена как наш очередной, уверенный вызов профессиональному хоккею. Победа советской команды под руководством Кулагина в этой серии выглядела достаточно убедительно, и была достигнута без сверхусилий. Наш старый знакомый Алан Иглсон посетил московскую часть серии и даже встречался с А.Тарасовым.
Именно тогда, во время Серии-74 Иглсон, реализуя свой давний замысел, начал переговоры с советскими, а позднее и европейскими властями о создании первого открытого хоккейного турнира. Он впоследствии получил название «Кубок Канады». Переговоры, в которые вошли МФХЛ и «Хоккей Канада», федерации европейских хоккейных стран, длились около двух лет и привели к многочисленным соглашениям: Канада вернется к международным соревнованиям в 1977 году, чемпионаты мира переходят в открытый формат, который позволяет играть в них профессионалам. В конце 1974 г. НХЛ, желая продолжить соперничество, сделала первую попытку договориться с русскими напрямую. Однако последних не устроили финансовые условия, предусматривавшие высокое американское налогообложение. Вторая попытка сработала через год. Советские команды ЦСКА и «Крылья Советов», усиленные игроками сборной СССР из других клубов, провели серию матчей с 8 клубами НХЛ: 5 побед, 2 поражения и 1 ничья в пользу русских. С таким багажом Канада и СССР подошли к осени 1976 г.
Последнее, что требует напоминания при рассказе о Кубке Канады, это состав сборной СССР по хоккею. В статусе Олимпийского чемпиона 1976 г., в своём победном составе советская команда не имела права проигрывать такой турнир. А неудача на Чемпионате мира того же года показала, что в компании столь сильных конкурентов наша команда имеет призрачные шансы на победу. Подобное было недопустимо, и тогда последовало политически взвешенное решение – отправить за океан не самый сильный состав. Как всегда, под предлогом (ещё не изживший себя довод Боброва) привлечения молодых, новых сил для обкатки в трудных сражениях самого высокого уровня. Под руководством примеривающегося к роли старшего тренера В.Тихонова в Канаду отправилась команда без 10 сильнейших хоккеистов страны.
Почему так много и подробно о Кубке Канады?
Потому что Кубок Канады 1976 года стал первым международным хоккейным турниром, в котором участвовали профессионалы.
Этот турнир с 1976 по 1991 год назывался Кубок Канады (всего их было 5) и был придуман канадцами, как своё собственное всемирное соревнование. Его господдержку обеспечивали «Хоккей Канады» и КЛХА, а НХЛ служила финансовой опорой. Кубок Канады провозгласили альтернативой турнирам Международной Федерации (МФХЛ). В нём родина хоккея и НХЛ не только гарантировали участие лучших мастеров для всех стран, но и сделали это главным условием соревнования. Советская команда победила однажды в 1981 г. (мы уже отметили, что в первом она выступала не сильнейшим составом). В 1996 г. Кубок Канады был переименован в Кубок мира, но за 25 лет он был разыгран лишь трижды. Наконец, с 1998 г. Канада начала участвовать сильнейшим составом игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх. Выше уже отмечалось, что в 5 таких турнирах канадцы трижды выигрывали золотые медали. Но с 2018 г. (после двух подряд побед у себя на родине в Ванкувере/2010 и в российском Сочи/2014) НХЛ сочла нецелесообразным участие её игроков в последующих Олимпиадах.
Таким образом, за 50-летний период, прошедший с момента Суперсерии, национальные команды Канады и СССР/России встречались в официальных международных турнирах своими сильнейшими составами лишь 15 раз: 9 побед Канады, 3 победы СССР/России и 3 ничьих. Такая статистика выглядит до боли неправдоподобно, если сопоставить эти цифры и сроки с итогами Суперсерии 1972 г. – 8 матчей в течение всего 1 месяца!
Осмысливая эти странные цифры, мы видим, что канадцы с полным основанием остаются непреклонными в утверждении, что победа над сборной СССР (над всем советским хоккеем) в 1972 г. «превратилась в вечность» (Darril Fosty, 2010). В вечность превосходства хоккея НХЛ, а сегодня уже и всей Канады над хоккеем Советского Союза и России.
И опровергнуть это суждение в последующие 50 лет нашему хоккею не удалось и до сих пор не удаётся.
Для чего мы так упорно возвращаем читателя, любителей хоккея к факту поражения нашей команды? Чтобы «посыпать голову пеплом», или ради пресловутого «извлечения уроков во имя будущих успехов»?
Вовсе нет! Авторы не настолько наивны, чтобы преследовать подобные цели спустя половину века. За последние 50 лет сама жизнь (особенно в нашей стране), как и большой спорт, в т.ч. хоккей, изменились неузнаваемо.
Ностальгия? Конечно! Без неё невозможно бережное отношение к истории, и её ответственное толкование во имя преемственности традиций. Дабы передать новым поколениям моральные ценности прошлого в достойном для их осознания виде.
Что подвигает нас на исследование фактов минувшего? Очевидно - только интерес к настоящему!
«Факты и события прошлого входят в нынешнюю жизнь и откликаются на нынешние, не былые интересы» (Мальцева С.А., Методологические основания философской системы Бенедетто Кроче, 2001).
Но интересы «нынешней жизни» формируются совсем не так, как это было 30-50 лет назад.
В последние десятилетия мы стали свидетелями бурного развития медийной культуры в целом, и исторической — в частности, с соответствующими изменениями в массовых исторических представлениях. История отечественного хоккея не стала исключением. «Медийное историческое знание» о хоккее содержится в разнообразных источниках информации о прошлом. Таких, как памятники, мемориалы и музеи, художественная и популярная литература, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), различные формы визуального и перформативного искусства (живопись, театр, кинематограф). Почти доминирующее положение среди этих источников сегодня занимают интернет-ресурсы.
«Интерес (а скорее любопытное отношение) к истории, спровоцированный ростом масс-медиа, и усвоение медийных версий прошлого в определенной мере приводят к дискредитации подлинного исторического знания. Однако современная популярная историческая продукция воспринимается скорее как достоверная. Ведь она часто обладает соответствующими признаками (документальными материалами, свидетельствами очевидцев, причинно-следственной аргументацией). Но когда подобных произведений множество, у потребителя возникает проблема совмещения отличающихся друг от друга интерпретаций. Для публики вовсе не очевидно, что существование разных интерпретаций одних и тех же событий и явлений есть не только свойство исторического знания, но и одновременно свидетельство его подлинности. Поэтому обладатель (потребитель) «иного» исторического знания должен самостоятельно определить и выбрать для себя «собственную версию истории», сообразно уровню интеллектуального развития и критического мышления» (И.М.Савельева, А.В.Полетаев, 2007).
Именно такую цель преследовало это наше повествование.
Так что же в хоккее настоящего нас так волнует, и, вероятнее всего, не удовлетворяет, что мы постоянно обращаемся к прошлому? Подчеркну, прошлому нашего великого хоккея времён СССР!
Ответ прост – многолетнее отсутствие стабильных и полноценных побед на высшем международном уровне! В той системе координат соревнований, где ведут борьбу сильнейшие спортсмены традиционно хоккейных стран мира – Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и России. Не удивляйтесь, но таких полноценных турниров, начиная с 1992 г., состоялось всего восемь (8). Что мы называем полноценным турниром? Это соревнование, в котором участвуют сильнейшие, лучшие спортсмены своих стран. А таковыми за истекшие 30 лет были три (3) турнира Кубка мира (1996, 2004 и 2016 гг.) и пять Олимпийских турниров (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 гг.). На них сборным России и Канады довелось встретиться всего 7 раз: 5 побед у канадцев, и только одна* у россиян. Канада выиграла 5 из этих 8 (восьми) турниров, сборная России ни одного.
Главный вопрос: так ли кому-то необходимы сегодня победные достижения отечественного спорта, в том числе хоккея – стране, российским гражданам, спортивному сообществу России!? Ведь, повторимся, мировой хоккей безоговорочно и, наверное, окончательно превращается в доминирующий хоккей НХЛ и, действительно вассальный, хоккей европейский. Требует ли нынешнее время неумолимого стремления к победе, которая в сегодняшнем финансово-призовом измерении ненамного отличается от поражения? Так ли важен для долларового мультимиллионера Овечкина взвившийся выше других российский государственный флаг? Только ответив утвердительно на эти и многие другие вопросы, МЫ сможем надеяться на возрождение славы отечественного хоккея. А воплощение этих надежд будет зависеть от многих обстоятельств и факторов, и от каждого, кто любит хоккей. Любит так, как любил его Анатолий Тарасов.
© В.С.Акопян - Москва, июнь 2023